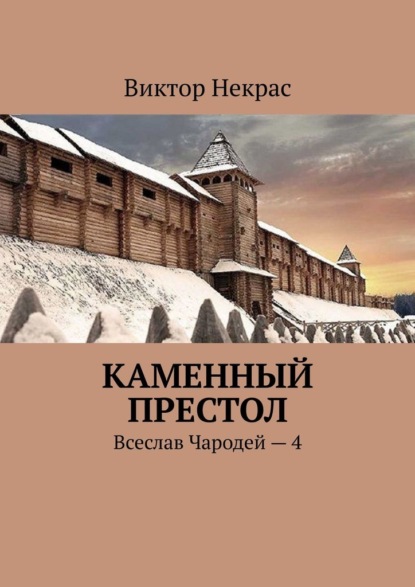По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каменный престол. Всеслав Чародей – 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Освободим из поруба дружину свою! – орал за спинами городовой мастеровщины Казатул.
– Освободим братьев наших!
– Всеслав! Всеслав!! Всеслав!!!
Тука споткнулся на полуслове, заметив неуловимое ещё движение в сенях, и почти тут же головы всех гридней (а и гридней-то при князе оставалось теперь немного – кто не погиб на Альте или в полон не попал, в Переяславле не успел укрыться) поворотились к дверям. Глянул туда и великий князь, раздражённый тем, что кто-то посмел прервать его совет со старшей дружиной. И тут же изменился в лице – в дверях гридницы стоял дружинный старшой Туки Володарь, бледный как смерть. Даже на Альте, вынеся пять мечевых и копейных ран, Володарь не был так бледен.
Тука, угадывая невысказанное ещё желание великого князя по одному его взгляду, отодвинул ставень с волокового окна, но Изяслав уже вскочил с места и с непристойной для великого князя прытью выбежал на гульбище – оттуда обзор был гораздо шире и дальше.
И тут же почувствовал, что у него волосы становятся дыбом, а по коже бегут мурашки.
Стадами бегут.
Было с чего и побледнеть Володарю.
По Боричеву взвозу, по той самой дороге, по которой восемьдесят лет тому княжьи гридни и вои волокли к Днепру сереброглавого Перуна с угрожающим гулом надвигалась оружная толпа. Мелькали дубины, цепы и вилы, поблёскивали на солнце заточенные лёза кос и топоров.
Больше всего было топоров, любимого оружия градских словен.
И – то тут, то там хищно взблёскивали мечевые лёза.
Не сам ли Перун ныне шёл по той дороге обратно на Гору, откуда его сверг князь Владимир Святославич восемь десятков лет тому?!
Великий князь сглотнул пересохшим горлом, разобрав, наконец, донёсшиеся крики:
– Всеслав! Всеслав! Всеслав!
Изяслав закусил губу, лихорадочно соображая, что это может значить, и во что может вылиться. И почти тут же рядом кто-то сказал:
– Плохо дело, господине…
Великий князь покосился через плечо – Тука! Чудин смотрел на толпу суженными глазами, словно выбирая цель для стрелы.
– Постеречь бы Всеслава надо… а то и вовсе…
– Что – вовсе? – помертвелыми губами выговорил Изяслав Ярославич, впиваясь в Туку взглядом и уже понимая, ЧТО хотел сказать верный гридень.
– А что – вовсе? – холодно усмехнулся Тука. – Подозвать поближе к окошку, будто передать что хотим, да и… не он первый.
Не он и последний, – подумалось дурно Изяславу, и он решительно отмотнул головой. Особого негодования на подавшего совет слугу он не чувствовал, но и решиться на такое не мог.
– Мне только Святополчей славы не хватало для полного счастья, – процедил великий князь (пока ещё великий!), отворачиваясь, и снова глядя на вливающуюся в ворота толпу. А кияне единодушно гремели на многие голоса:
– Всеслав! Всеслав! Всеслав!
Осеннее солнце бросило себя на пол через волоковое окно, высветило пылинки на тёсаных горбылях. Поруб был неглубок – благо и на том великому князю, хоть в погреб не засадил, сырой да холодный.
Всеслав Брячиславич старательно выцарапал осколком разбитой глиняной чашки (ножа у полоцкого князя теперь не было – остался в берестовском терему, а то может, кто из княжьих людей лапу на него наложил – хороший был нож, ещё отцовский подарок) очередную чёрточку на бревне, покосился наверх, где негромко разговаривала о чём-то сторожа. Сторожили его вои самого Изяслава, и по-прежнему избегали сказать ему хоть слово – памятовали, что пленный полочанин умудрился прямо из-под стражи, из берестовского терема найти в Киеве своих сторонников и чуть не вырвался из полона. Молчали.
Чтобы не повредиться умом от одиночества, Всеслав повадился каждое утро повторять приёмы мечевого боя, обязательно ставил черточку на бревне, отмечая прошедший день, пел кривские песни. Сторожа заглядывала к нему, вои любопытно смотрели на узника, качали головой и исчезали.
Борода Всеслава отросла и окончательно смешалась с усами, длинные волосы падали на плечи… пожалуй, он сейчас как никогда был похож на Отца-Велеса! Благо, хоть в баню водят раз в две седмицы! – усмехнулся князь сам себе, – а то бы вовзят завшивел князь полоцкий, да и вонял бы непотребно!
Князь угрюмо пересчитал царапины на стене, лёг на дощатую лавку, прикрыл глаза.
Сколько ж он уже сидит в этом порубе?
По его меркам и подсчётам выходило, что девятый месяц. Наверху и зима прошла, и весна отшумела, и лето пролетело… осень сейчас. Руян-месяц. Ревёт в лесах зверьё, на полях смерды хлеба дожинают да на токах цепами колотят. А в дубовых бочонкам квасится свежее пиво.
Восемь месяцев в порубе.
И больше года, четырнадцать месяцев – в полоне.
Иногда Всеслав начинал уже терять надежду.
Начинало казаться, что всё кончено. Что его полочане отступились от своего князя, что его жена и младший сын давно уже в полоне у Ярославичей, что над полоцкой землёй свирепствует огонь и крест. Что всё потеряно, а ему отныне остаётся только закончить жизнь в погребе – как крысе!
После таких мыслей Всеславу сначала хотелось разбить себе голову о стену, а потом – охватывала злоба, и казалось, что вот ещё немного – и лопнет на нём человечья кожа, выпуская наружу невестимо какое чудище в чешуе или шерсти, что руки, сами собой прорастая когтями, вдруг протянутся до перекрытия и легко сметут его вместе со стражей. А после того – берегись, великий князь и город Киев вместе с тобой!
– Освободим братьев наших!
– Всеслав! Всеслав!! Всеслав!!!
Тука споткнулся на полуслове, заметив неуловимое ещё движение в сенях, и почти тут же головы всех гридней (а и гридней-то при князе оставалось теперь немного – кто не погиб на Альте или в полон не попал, в Переяславле не успел укрыться) поворотились к дверям. Глянул туда и великий князь, раздражённый тем, что кто-то посмел прервать его совет со старшей дружиной. И тут же изменился в лице – в дверях гридницы стоял дружинный старшой Туки Володарь, бледный как смерть. Даже на Альте, вынеся пять мечевых и копейных ран, Володарь не был так бледен.
Тука, угадывая невысказанное ещё желание великого князя по одному его взгляду, отодвинул ставень с волокового окна, но Изяслав уже вскочил с места и с непристойной для великого князя прытью выбежал на гульбище – оттуда обзор был гораздо шире и дальше.
И тут же почувствовал, что у него волосы становятся дыбом, а по коже бегут мурашки.
Стадами бегут.
Было с чего и побледнеть Володарю.
По Боричеву взвозу, по той самой дороге, по которой восемьдесят лет тому княжьи гридни и вои волокли к Днепру сереброглавого Перуна с угрожающим гулом надвигалась оружная толпа. Мелькали дубины, цепы и вилы, поблёскивали на солнце заточенные лёза кос и топоров.
Больше всего было топоров, любимого оружия градских словен.
И – то тут, то там хищно взблёскивали мечевые лёза.
Не сам ли Перун ныне шёл по той дороге обратно на Гору, откуда его сверг князь Владимир Святославич восемь десятков лет тому?!
Великий князь сглотнул пересохшим горлом, разобрав, наконец, донёсшиеся крики:
– Всеслав! Всеслав! Всеслав!
Изяслав закусил губу, лихорадочно соображая, что это может значить, и во что может вылиться. И почти тут же рядом кто-то сказал:
– Плохо дело, господине…
Великий князь покосился через плечо – Тука! Чудин смотрел на толпу суженными глазами, словно выбирая цель для стрелы.
– Постеречь бы Всеслава надо… а то и вовсе…
– Что – вовсе? – помертвелыми губами выговорил Изяслав Ярославич, впиваясь в Туку взглядом и уже понимая, ЧТО хотел сказать верный гридень.
– А что – вовсе? – холодно усмехнулся Тука. – Подозвать поближе к окошку, будто передать что хотим, да и… не он первый.
Не он и последний, – подумалось дурно Изяславу, и он решительно отмотнул головой. Особого негодования на подавшего совет слугу он не чувствовал, но и решиться на такое не мог.
– Мне только Святополчей славы не хватало для полного счастья, – процедил великий князь (пока ещё великий!), отворачиваясь, и снова глядя на вливающуюся в ворота толпу. А кияне единодушно гремели на многие голоса:
– Всеслав! Всеслав! Всеслав!
Осеннее солнце бросило себя на пол через волоковое окно, высветило пылинки на тёсаных горбылях. Поруб был неглубок – благо и на том великому князю, хоть в погреб не засадил, сырой да холодный.
Всеслав Брячиславич старательно выцарапал осколком разбитой глиняной чашки (ножа у полоцкого князя теперь не было – остался в берестовском терему, а то может, кто из княжьих людей лапу на него наложил – хороший был нож, ещё отцовский подарок) очередную чёрточку на бревне, покосился наверх, где негромко разговаривала о чём-то сторожа. Сторожили его вои самого Изяслава, и по-прежнему избегали сказать ему хоть слово – памятовали, что пленный полочанин умудрился прямо из-под стражи, из берестовского терема найти в Киеве своих сторонников и чуть не вырвался из полона. Молчали.
Чтобы не повредиться умом от одиночества, Всеслав повадился каждое утро повторять приёмы мечевого боя, обязательно ставил черточку на бревне, отмечая прошедший день, пел кривские песни. Сторожа заглядывала к нему, вои любопытно смотрели на узника, качали головой и исчезали.
Борода Всеслава отросла и окончательно смешалась с усами, длинные волосы падали на плечи… пожалуй, он сейчас как никогда был похож на Отца-Велеса! Благо, хоть в баню водят раз в две седмицы! – усмехнулся князь сам себе, – а то бы вовзят завшивел князь полоцкий, да и вонял бы непотребно!
Князь угрюмо пересчитал царапины на стене, лёг на дощатую лавку, прикрыл глаза.
Сколько ж он уже сидит в этом порубе?
По его меркам и подсчётам выходило, что девятый месяц. Наверху и зима прошла, и весна отшумела, и лето пролетело… осень сейчас. Руян-месяц. Ревёт в лесах зверьё, на полях смерды хлеба дожинают да на токах цепами колотят. А в дубовых бочонкам квасится свежее пиво.
Восемь месяцев в порубе.
И больше года, четырнадцать месяцев – в полоне.
Иногда Всеслав начинал уже терять надежду.
Начинало казаться, что всё кончено. Что его полочане отступились от своего князя, что его жена и младший сын давно уже в полоне у Ярославичей, что над полоцкой землёй свирепствует огонь и крест. Что всё потеряно, а ему отныне остаётся только закончить жизнь в погребе – как крысе!
После таких мыслей Всеславу сначала хотелось разбить себе голову о стену, а потом – охватывала злоба, и казалось, что вот ещё немного – и лопнет на нём человечья кожа, выпуская наружу невестимо какое чудище в чешуе или шерсти, что руки, сами собой прорастая когтями, вдруг протянутся до перекрытия и легко сметут его вместе со стражей. А после того – берегись, великий князь и город Киев вместе с тобой!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: