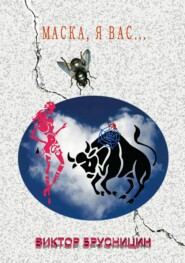По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На ты с Америкой, или Только секс, ничего личного
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На ты с Америкой, или Только секс, ничего личного
Виктор Михайлович Брусницин
Забавные, а порой и отчаянные приключения в США неискушенного российского обывателя, служителя науки.
Вот вы говорите – американцы, американцы. Согласен от и до, есть подобная нация. Только объясните, что за герой такой выискался, каких он психологических размеров и подоплеки, и в каком падеже с ним тет-а-тет произносить. Скажем, коснись мы его силуэт словом, один брызжет – нахрап, другой – делопут, третий вообще нипочем объявит – скуковит и неумник. Так я докладываю: находился, рассмотрел и вышел оттуда в недоумении зелом. Теперь и в светлый полдень не различу, где умный, а где противоположный. Впрочем, история эта столь сомнительная, что сижу теперь и покрываюсь размышлениями – а в здравом ли я уме, либо весь мир накренился и отодвинулся от законов эволюции.
Казус явился следующий. Объявилась мне командировчонка в рай обетованный. Поясню наскоро. Работаю я в горнодобывающей отрасли – близко к сырьевым ресурсам, можно произнести. Правда, присутствую в науке. Словом, намараковали мы коллективом одно мероприятие, облегчающее иностранцам возможность пользоваться народным (?) достоянием. Завязались на этой почве отношения. Начальство пустилось за границу ездить, да как-то раз и меня приспособило. Дело в том, что я сносно рассуждаю на американском языке.
Общие места опущу, а сразу устремлюсь к насущному. Из всего пребывания выкроил я пару дней на собственность. Тут вот какая штука, учится в Америке, в одном провинциальном университете мой родной племянник, – стало модным посылать студентов обучаться за границу в счет разных благотворительных стипендий, и Вовка умудрился выиграть конкурс – он по сговору за мной в назначенное место заехал и увез неподалеку в свой городок. Утром это произошло, днем мы достопримечательностями любовались – магазинами, главным образом, второй руки – а вечером соорудили посиделку с его знакомыми.
Жил Вовка в общежитии – очень приличного вида двухэтажный особняк с множеством просторных, комфортабельных помещений. Он занимал на пару с приятелем две смежные комнаты, здесь вечеринку и устроили. Народу подсобралось довольно – пиво, крепкое, закусь – на меня внимание почти никто не обращал, и слава богу, ибо человек я на общение сморщенный. Отсюда же и употребил некоторое кол-во – средство для раскрепежа доморощенное. И в самом деле, вскоре осмелел, соваться в разговор начал и вообще улыбаться. Тут еще замечу. Демократия в Америке штука чрезвычайная и профессор с последним студентом на ты. Кроме того, иные преподаватели вообще в той же общаге живут и рюмку пива с учеником накатить не гнушают. Да и сами студенты народ разновозрастный. Короче, присутствовали там особи моего порядка, и это удали мне добавило.
Итак, журчит беседа. И вот какой штрих. Вы ж кино американское видите и сами, поди, убедились, что относительно фак ю народ тамошний – расторопный. Во всяком случае, в фильмах об этом объявления повсеместно развешаны. Выясняется, что и в жизни о принадлежности к этому слову толкуют ребята как о паре пустяков. От такого обстоятельства и посягательств на разные интимные темы со стороны аборигенов приходит мне в идею одно шальное воспоминание из отрочества довольно игривого свойства, и решаюсь я расположенных окрест людей в него посвятить. Тем более что частенько эту историю мне доводилось пользовать и отомщен улыбкой происходил. Вот упомянутый рассказ.
Что-нибудь годов одиннадцать я пережил и по тому случаю, как и в прежние летние отпуска, являюсь на жительство в деревню, к тетке. Жизнь идет самая стоящая и один эпизод включает в себя посещение купно с приятелем чужого огорода. С намерениями пакостливыми. Посещение образовалось неудачное – застигнуты получились в самый нерасторопный момент. Углядела нас хозяйка, тетка лет двадцати (оно, конечно, и не тетка, – но как при небольшом дите, то тетка и есть) и крепко шуганула. От физического возмездия мы увернулись, но словом обласканы были отрадно. От неприменения физических достижений и перепуга, отойдя на отчетливое расстояние, я взялся перечить и говорить вздорные слова. На это тетка пообещала меня таки достать – взор ее горел неминуемо и подтверждал достоинство угрозы.
Минуло несколько насыщенных деньков. Я, как и в намедние дни, помогал дружку пасти коров. Происходило это неподалеку от леса и основной нашей задачей состояло не пускать зверей в оный, дабы не заплутали, или выковыривать неусмотренных злоумышленников. Вот раз погнался я за нерадивой особью и добросовестно выцарапал ее из массива. Облагороженный тщательно выполненным уроком и сморенный ягодным соблазном погрузился затем в некоторую чащу. Поковырял что-либо малость, усладился и присел невзначай на травяную поросль. Да и не отведал, как задремал. Сколько этим занимался, не отвечу, только проснулся в неге. Солнце ласковое сквозь листву ползет, птицы лопочут, ветерок в волосах шелестит – окаянно. Встаю, субтильный, и направляюсь на диспозицию.
Здесь и следует доложить, что убитый негой просмотрел одно обстоятельство. Заблудился в те счастливые минуты в моих закромах муравей, да от огорчения и цапнул… Куда?.. Изъясняюсь предусмотрительным языком Пушкина: «Впился ему в то место роковое, излишнее почти при всяком бое, в надменный член…» Да так обстоятельно, что я и не почувствовал.
Ну, отстояли смену. Солнце, слышь, куражу лишилось, валится с небосклона. Ведем перед собой стадо – свободные и молодые. Уж добрались до деревни, чувствую, некоторая физическая неладность кроится у меня в штанах. Однако не станешь же – поскольку деревня вступила в непосредственную близость – рассматривать явление. Да и коровы, хоть молчаливый свидетель, всё женского полу. Добрались до дому, юрк я в неприглядное место и учиняю обследование. И вот знаете, только панораму отверз, тут ко мне кондратий и припожаловал. Предстало моему взору нечто сугубо удивительное. Вместо обычной принадлежности явился патриот нечеловеческих размеров и столь сложной конфигурации, что невозможно – да и неловко, понимаете – описать феномен. Это позже обозвали хворь аллергией, а пока пожалуйте с явлением жить. Словом, пострадал я ночь (сразу признаться не решился), а наутро предъявляю дядьке доказательство и требую: вот, де, родственник, наблюдай и резюмируй, как в данных кондициях будешь меня содержать. Покачал головой дядька, потер поясницу, тетка руками всплеснула, и повели они племянника, огорошенные, в лечебную клинику.
Пожилая врач в клинике вилять не стала и, оглядев мероприятие, конкретно сказала: «Хм!» (Еще и добавила – «нда…») Затем осторожно потрепала мои волосы, уважительно произнесла: «Компресс поставим, подожди в перевязочной, сейчас сестра подойдет», – и вышла из кабинета вместе с родней.
Сижу в этой перевязочной, стало, одинокий и испытываю страх, ибо шибко дерзкое это слово – компресс. Только не долго я наслаждался, сколько пошли совсем язвительные приключения.
Сижу, значит, понурившись, со спущенными штанами и прикрываю надлежащее ладошками (что можно). Голова опущена и краска стыда течет вместо крови, поскольку вид совершенно непринципиальный. Слышу, чмокнула дверь и наблюдаю, как во взор вплывает нижняя часть туловища гражданки в белом халате.
– Ну, что жалеешь, – произносит верхняя часть туловища, – не боись, не отниму. Показывай сокровище.
Поднимаю голову – дабы хоть какой-то жест изобразить – и тут, осозерцав целое, предаюсь бесконечному ужасу. Передо мной стоит та самая тетка молодуха – поборница огородных устоев, обещательница отместки на мою проказливую плоть. Полный крендель.
Описать состояние не берусь, только знаю, что мельтешит между ним мысль о неотвратимой каре. И очень хладонамеренно подтверждает мою сообразительность тетка таким словом:
– А-а, голубчик, ты сам явился!
Далее тетя, очень замечательно глядя в мои побелевшие очи, достает из зловещей миски какие-то страшенные, блескучие инструменты.
Ну, ясно, приходит в голову последняя прозаическая идея – принадлежности я лишился. И охватывает при этом тоска, – хоть в те безоблачные годы о разнородных применениях предмета я мало помышлял, а все жаль, потому как собственность. Вот и держу оборонительные руки, лелея последние мгновения сосуществования. Однако не долго длился альянс.
– Убери ручки-то, – холодно говорит палач и металлической штуковиной, похожей на ножницы, отодвигает мои длани.
Да только я руки расправил, возникает совершенно никудышная перепития. Как увидела сердешная натюрморт, так и опешила. Далее резво развернулась, взвив халатом, и выметнулась из кабинета, сопроводив поступок зычным криком: «Девки-и!»
Какой ООН рассудит, как держать себя без штанов и при подобных восклицаниях? Вот и остаюсь в сомнении. Налицо собственное неглиже, рожа красная от волнения за принципы и бесперспективность грядущего, и вне помещения очевидная звуковая суетня явно нерентабельного свойства. Сунулся я хоть руки запахнуть и верно сделал, поскольку вваливается незамедлительно в комнату шалман женских субъектов в белых халатах и разных возрастов и начинаются каверзы самого решительного размера.
Дальнейшую сцену прошу рассмотреть с придирчивой наглядностью.
Дружно и торжественно дамы расположились полукругом передо мной, взирая алчно и настоятельно. Впереди гордо и строго стоит воительница. Мгновение тишины, прелюдия экстаза. Я – в гипнотизме стыда, нереальности и неотвратимости возмездия. И в этой тишине, словно взмах дирижера, происходит жест моей казнительницы и ясный, ликующий возглас:
– Открывай.
Не я, разумеется, ретивый дух дерзко и победно разваливает руки, и в зудящем безмолвии, словно первый аккорд органа, взрывается восхищенный выдох: «Ух ты!!!»
Полный крендель – иначе не обмолвишься.
Далее начинается движение. Тела колеблются, ерзают, переминаются, суетятся. Полукруг начинает сдавливаться, в воздухе мелькают растопыренные пальцы, медленно плывущие движения заполняют мой взор. Снова охватывает страх. «Скорей бы отрезали и отпустили», – мелькнула мысль. Но тут нарастающий шепот, стон, кряк режет отчетливый и грозный возглас:
– Но-но!! Не лапать!
Подруга стояла в батальной позиции, распластав руки и угрожающе выдвинув навстречу шалману бюст.
– Хорош на сегодня, спектакль окончен, – весело гаркает крепость.
Дамы дружно текут из кабинета, хихикая, заливаясь, перебивая друг друга каверзными фразами, смысл которых мне был непонятен.
– Ну, ложись на кушетку, – сообщает защита, – будем соболезновать.
От этих мизансцен настроение мое совершенно употребилось и отзвучало – хоть некоторая опасность в теле еще содержалась, – однако завершилось все благополучно. Самым сокровенным методом была устроена мокрая тряпочка для соприкосновения с предметом пушкинского вдохновения, и затем конструкцию увенчали обыкновенной бинтовой амуницией.
– Утром в десять часов чтоб как приговоренный сюда, – сообщает решение тетушка и ободряюще треплет бледную и морозную от успокоившегося стыда щеку. Аудиенция закончилась.
На другой день я нес достояние вполне бодро и не пугливо. Почетный караул в виде вчерашней ватаги уже расположился на скамейках подле входа в поликлинику. Свита дружно и ласково приветствовала меня и нестройно проследовала сзади. Величайшая подруга всех времен и пространств, с невообразимо лучезарной улыбкой и предпоследней томностью молвив: «Здравствуй, уникум», – препроводила в перевязочную.
С некоторым содроганием я заметил, что следом внедрились и отдельные личности из сопровождения. Предвидя относительно доступный характер предстоящей акции, я возобладал небольшой оторопью, однако она технично была урезонена ожидавшими в кабинете подношениями. Оглашаю перечень: литровая банка свежей земляники, несколько яблок, несколько же пряников, кринка густейшей, отливающей желтизной сметаны. Натура быстро произвела подсчет и я даже несколько воинственно адаптировался к ситуации.
Снимала маскарад тетушка священно – ассистенции, естественно, ни малейшей. В трепетных взорах соглядатаев полыхала тревога ожидания. Признаюсь откровенно, я и сам несколько смятенно относился к результатам. Однако последний жест благодетельницы скучные предположения отвадил – муравей потрудился бескомпромиссно. Чудо предстало в полном респекте. Мало того, явно обнаружились некоторые усовершенствования.
Если вчера наблюдались некоторые излишки, диспропорции, то нынче вещь являла завершенную, отлитую композицию. Линии, лишенные резкости, возымели плавность, переходы – законченность, целое – грацию. Фигура аккуратно и независимо, наполненная гармонической силой, упруго покоилась в чреслах. Утомленное незримой насыщенной работой, в мягком луче ясного полдня сооружение матово отливало глубоким светом, располагая на себе очень емкие необходимые блики. В сущности, это было произведение искусства.
Наблюдатели в ленивом, спокойном восхищении молча глядели. Тетушка, безвольно опустив руки и несколько наклонив голову к плечу, смотрела внимательно и творчески, как бы изыскивая завершающий ракурс. Я сам, преисполненный гордости, с неожиданной силой сомкнул челюсти, боясь выдать звук восторга. Это были упоительные минуты.
Отчего-то не возникло обсуждение. Вероятно, отпустивший страх (за исчезновение волшебства), упокоение, минуты величественного созерцания наполнили торжеством бытия, риторические смыслы словес потеряли актуальность – в помещении царствовала природа.
Единожды только идиллия была прервана. Из коридора прибежал тусклый возглас:
– Нинка, ты где, паразитка, пропала! Больные ждут.
Нинка, конопатая, с остреньким носиком молодуха, сматерилась сквозь зубы и обречёно выдохнув, тронулась к выходу.
Впрочем, сеанс вскоре закончился. Произведение было нежно обернуто, и меня с добрейшими пожеланиями и настояниями беречь себя отправили отдыхать до следующего утра.
Вы же понимаете, что такое деревня. По пути следования домой каждый встретившийся селянин почитал своим долгом пожать мне руку. Пожилые дяди степенно останавливались, здоровались, потеребив кепку, осведомлялись о здоровье, далее переходили на политику, далее сетовали на разные житейские невзгоды и завершали рандеву деликатной просьбой высказать соображения относительно будущего урожая. Бабы кивали головами, говорили «здрасьсте», при этом как-то особенно вздрагивали их бюсты. Нечего и говорить, что фигура моя подвергалась некоему потайному досмотру. Даже девчонки-сверстницы (в быту мы воевали) задавали всякие посторонние вопросы, никогда прежде не произносимые. Правда, ниже моего лица их взгляды старательно не опускались.
Дверь нашей ограды беспрестанно хлопала – кто-либо приходил по разным поводам. Непосредственными оставались только мои корешки – скабрезили, салили шуточками. Правда, общаться с ним я пошел редко – дядя наущал беречь суть.
Еще невеликая ремарочка. Тем же вечером заходит Сашка Старицын. Захудалый мужик лет тридцати. Отчаянный добряк и полный инфант – он запросто водил игры с нами.
После разных ухищрений он отводит меня в проулок и произносит недоверчиво: «Слышь, Вито…» – пускается свирепо скрести щетинистую щеку.
Виктор Михайлович Брусницин
Забавные, а порой и отчаянные приключения в США неискушенного российского обывателя, служителя науки.
Вот вы говорите – американцы, американцы. Согласен от и до, есть подобная нация. Только объясните, что за герой такой выискался, каких он психологических размеров и подоплеки, и в каком падеже с ним тет-а-тет произносить. Скажем, коснись мы его силуэт словом, один брызжет – нахрап, другой – делопут, третий вообще нипочем объявит – скуковит и неумник. Так я докладываю: находился, рассмотрел и вышел оттуда в недоумении зелом. Теперь и в светлый полдень не различу, где умный, а где противоположный. Впрочем, история эта столь сомнительная, что сижу теперь и покрываюсь размышлениями – а в здравом ли я уме, либо весь мир накренился и отодвинулся от законов эволюции.
Казус явился следующий. Объявилась мне командировчонка в рай обетованный. Поясню наскоро. Работаю я в горнодобывающей отрасли – близко к сырьевым ресурсам, можно произнести. Правда, присутствую в науке. Словом, намараковали мы коллективом одно мероприятие, облегчающее иностранцам возможность пользоваться народным (?) достоянием. Завязались на этой почве отношения. Начальство пустилось за границу ездить, да как-то раз и меня приспособило. Дело в том, что я сносно рассуждаю на американском языке.
Общие места опущу, а сразу устремлюсь к насущному. Из всего пребывания выкроил я пару дней на собственность. Тут вот какая штука, учится в Америке, в одном провинциальном университете мой родной племянник, – стало модным посылать студентов обучаться за границу в счет разных благотворительных стипендий, и Вовка умудрился выиграть конкурс – он по сговору за мной в назначенное место заехал и увез неподалеку в свой городок. Утром это произошло, днем мы достопримечательностями любовались – магазинами, главным образом, второй руки – а вечером соорудили посиделку с его знакомыми.
Жил Вовка в общежитии – очень приличного вида двухэтажный особняк с множеством просторных, комфортабельных помещений. Он занимал на пару с приятелем две смежные комнаты, здесь вечеринку и устроили. Народу подсобралось довольно – пиво, крепкое, закусь – на меня внимание почти никто не обращал, и слава богу, ибо человек я на общение сморщенный. Отсюда же и употребил некоторое кол-во – средство для раскрепежа доморощенное. И в самом деле, вскоре осмелел, соваться в разговор начал и вообще улыбаться. Тут еще замечу. Демократия в Америке штука чрезвычайная и профессор с последним студентом на ты. Кроме того, иные преподаватели вообще в той же общаге живут и рюмку пива с учеником накатить не гнушают. Да и сами студенты народ разновозрастный. Короче, присутствовали там особи моего порядка, и это удали мне добавило.
Итак, журчит беседа. И вот какой штрих. Вы ж кино американское видите и сами, поди, убедились, что относительно фак ю народ тамошний – расторопный. Во всяком случае, в фильмах об этом объявления повсеместно развешаны. Выясняется, что и в жизни о принадлежности к этому слову толкуют ребята как о паре пустяков. От такого обстоятельства и посягательств на разные интимные темы со стороны аборигенов приходит мне в идею одно шальное воспоминание из отрочества довольно игривого свойства, и решаюсь я расположенных окрест людей в него посвятить. Тем более что частенько эту историю мне доводилось пользовать и отомщен улыбкой происходил. Вот упомянутый рассказ.
Что-нибудь годов одиннадцать я пережил и по тому случаю, как и в прежние летние отпуска, являюсь на жительство в деревню, к тетке. Жизнь идет самая стоящая и один эпизод включает в себя посещение купно с приятелем чужого огорода. С намерениями пакостливыми. Посещение образовалось неудачное – застигнуты получились в самый нерасторопный момент. Углядела нас хозяйка, тетка лет двадцати (оно, конечно, и не тетка, – но как при небольшом дите, то тетка и есть) и крепко шуганула. От физического возмездия мы увернулись, но словом обласканы были отрадно. От неприменения физических достижений и перепуга, отойдя на отчетливое расстояние, я взялся перечить и говорить вздорные слова. На это тетка пообещала меня таки достать – взор ее горел неминуемо и подтверждал достоинство угрозы.
Минуло несколько насыщенных деньков. Я, как и в намедние дни, помогал дружку пасти коров. Происходило это неподалеку от леса и основной нашей задачей состояло не пускать зверей в оный, дабы не заплутали, или выковыривать неусмотренных злоумышленников. Вот раз погнался я за нерадивой особью и добросовестно выцарапал ее из массива. Облагороженный тщательно выполненным уроком и сморенный ягодным соблазном погрузился затем в некоторую чащу. Поковырял что-либо малость, усладился и присел невзначай на травяную поросль. Да и не отведал, как задремал. Сколько этим занимался, не отвечу, только проснулся в неге. Солнце ласковое сквозь листву ползет, птицы лопочут, ветерок в волосах шелестит – окаянно. Встаю, субтильный, и направляюсь на диспозицию.
Здесь и следует доложить, что убитый негой просмотрел одно обстоятельство. Заблудился в те счастливые минуты в моих закромах муравей, да от огорчения и цапнул… Куда?.. Изъясняюсь предусмотрительным языком Пушкина: «Впился ему в то место роковое, излишнее почти при всяком бое, в надменный член…» Да так обстоятельно, что я и не почувствовал.
Ну, отстояли смену. Солнце, слышь, куражу лишилось, валится с небосклона. Ведем перед собой стадо – свободные и молодые. Уж добрались до деревни, чувствую, некоторая физическая неладность кроится у меня в штанах. Однако не станешь же – поскольку деревня вступила в непосредственную близость – рассматривать явление. Да и коровы, хоть молчаливый свидетель, всё женского полу. Добрались до дому, юрк я в неприглядное место и учиняю обследование. И вот знаете, только панораму отверз, тут ко мне кондратий и припожаловал. Предстало моему взору нечто сугубо удивительное. Вместо обычной принадлежности явился патриот нечеловеческих размеров и столь сложной конфигурации, что невозможно – да и неловко, понимаете – описать феномен. Это позже обозвали хворь аллергией, а пока пожалуйте с явлением жить. Словом, пострадал я ночь (сразу признаться не решился), а наутро предъявляю дядьке доказательство и требую: вот, де, родственник, наблюдай и резюмируй, как в данных кондициях будешь меня содержать. Покачал головой дядька, потер поясницу, тетка руками всплеснула, и повели они племянника, огорошенные, в лечебную клинику.
Пожилая врач в клинике вилять не стала и, оглядев мероприятие, конкретно сказала: «Хм!» (Еще и добавила – «нда…») Затем осторожно потрепала мои волосы, уважительно произнесла: «Компресс поставим, подожди в перевязочной, сейчас сестра подойдет», – и вышла из кабинета вместе с родней.
Сижу в этой перевязочной, стало, одинокий и испытываю страх, ибо шибко дерзкое это слово – компресс. Только не долго я наслаждался, сколько пошли совсем язвительные приключения.
Сижу, значит, понурившись, со спущенными штанами и прикрываю надлежащее ладошками (что можно). Голова опущена и краска стыда течет вместо крови, поскольку вид совершенно непринципиальный. Слышу, чмокнула дверь и наблюдаю, как во взор вплывает нижняя часть туловища гражданки в белом халате.
– Ну, что жалеешь, – произносит верхняя часть туловища, – не боись, не отниму. Показывай сокровище.
Поднимаю голову – дабы хоть какой-то жест изобразить – и тут, осозерцав целое, предаюсь бесконечному ужасу. Передо мной стоит та самая тетка молодуха – поборница огородных устоев, обещательница отместки на мою проказливую плоть. Полный крендель.
Описать состояние не берусь, только знаю, что мельтешит между ним мысль о неотвратимой каре. И очень хладонамеренно подтверждает мою сообразительность тетка таким словом:
– А-а, голубчик, ты сам явился!
Далее тетя, очень замечательно глядя в мои побелевшие очи, достает из зловещей миски какие-то страшенные, блескучие инструменты.
Ну, ясно, приходит в голову последняя прозаическая идея – принадлежности я лишился. И охватывает при этом тоска, – хоть в те безоблачные годы о разнородных применениях предмета я мало помышлял, а все жаль, потому как собственность. Вот и держу оборонительные руки, лелея последние мгновения сосуществования. Однако не долго длился альянс.
– Убери ручки-то, – холодно говорит палач и металлической штуковиной, похожей на ножницы, отодвигает мои длани.
Да только я руки расправил, возникает совершенно никудышная перепития. Как увидела сердешная натюрморт, так и опешила. Далее резво развернулась, взвив халатом, и выметнулась из кабинета, сопроводив поступок зычным криком: «Девки-и!»
Какой ООН рассудит, как держать себя без штанов и при подобных восклицаниях? Вот и остаюсь в сомнении. Налицо собственное неглиже, рожа красная от волнения за принципы и бесперспективность грядущего, и вне помещения очевидная звуковая суетня явно нерентабельного свойства. Сунулся я хоть руки запахнуть и верно сделал, поскольку вваливается незамедлительно в комнату шалман женских субъектов в белых халатах и разных возрастов и начинаются каверзы самого решительного размера.
Дальнейшую сцену прошу рассмотреть с придирчивой наглядностью.
Дружно и торжественно дамы расположились полукругом передо мной, взирая алчно и настоятельно. Впереди гордо и строго стоит воительница. Мгновение тишины, прелюдия экстаза. Я – в гипнотизме стыда, нереальности и неотвратимости возмездия. И в этой тишине, словно взмах дирижера, происходит жест моей казнительницы и ясный, ликующий возглас:
– Открывай.
Не я, разумеется, ретивый дух дерзко и победно разваливает руки, и в зудящем безмолвии, словно первый аккорд органа, взрывается восхищенный выдох: «Ух ты!!!»
Полный крендель – иначе не обмолвишься.
Далее начинается движение. Тела колеблются, ерзают, переминаются, суетятся. Полукруг начинает сдавливаться, в воздухе мелькают растопыренные пальцы, медленно плывущие движения заполняют мой взор. Снова охватывает страх. «Скорей бы отрезали и отпустили», – мелькнула мысль. Но тут нарастающий шепот, стон, кряк режет отчетливый и грозный возглас:
– Но-но!! Не лапать!
Подруга стояла в батальной позиции, распластав руки и угрожающе выдвинув навстречу шалману бюст.
– Хорош на сегодня, спектакль окончен, – весело гаркает крепость.
Дамы дружно текут из кабинета, хихикая, заливаясь, перебивая друг друга каверзными фразами, смысл которых мне был непонятен.
– Ну, ложись на кушетку, – сообщает защита, – будем соболезновать.
От этих мизансцен настроение мое совершенно употребилось и отзвучало – хоть некоторая опасность в теле еще содержалась, – однако завершилось все благополучно. Самым сокровенным методом была устроена мокрая тряпочка для соприкосновения с предметом пушкинского вдохновения, и затем конструкцию увенчали обыкновенной бинтовой амуницией.
– Утром в десять часов чтоб как приговоренный сюда, – сообщает решение тетушка и ободряюще треплет бледную и морозную от успокоившегося стыда щеку. Аудиенция закончилась.
На другой день я нес достояние вполне бодро и не пугливо. Почетный караул в виде вчерашней ватаги уже расположился на скамейках подле входа в поликлинику. Свита дружно и ласково приветствовала меня и нестройно проследовала сзади. Величайшая подруга всех времен и пространств, с невообразимо лучезарной улыбкой и предпоследней томностью молвив: «Здравствуй, уникум», – препроводила в перевязочную.
С некоторым содроганием я заметил, что следом внедрились и отдельные личности из сопровождения. Предвидя относительно доступный характер предстоящей акции, я возобладал небольшой оторопью, однако она технично была урезонена ожидавшими в кабинете подношениями. Оглашаю перечень: литровая банка свежей земляники, несколько яблок, несколько же пряников, кринка густейшей, отливающей желтизной сметаны. Натура быстро произвела подсчет и я даже несколько воинственно адаптировался к ситуации.
Снимала маскарад тетушка священно – ассистенции, естественно, ни малейшей. В трепетных взорах соглядатаев полыхала тревога ожидания. Признаюсь откровенно, я и сам несколько смятенно относился к результатам. Однако последний жест благодетельницы скучные предположения отвадил – муравей потрудился бескомпромиссно. Чудо предстало в полном респекте. Мало того, явно обнаружились некоторые усовершенствования.
Если вчера наблюдались некоторые излишки, диспропорции, то нынче вещь являла завершенную, отлитую композицию. Линии, лишенные резкости, возымели плавность, переходы – законченность, целое – грацию. Фигура аккуратно и независимо, наполненная гармонической силой, упруго покоилась в чреслах. Утомленное незримой насыщенной работой, в мягком луче ясного полдня сооружение матово отливало глубоким светом, располагая на себе очень емкие необходимые блики. В сущности, это было произведение искусства.
Наблюдатели в ленивом, спокойном восхищении молча глядели. Тетушка, безвольно опустив руки и несколько наклонив голову к плечу, смотрела внимательно и творчески, как бы изыскивая завершающий ракурс. Я сам, преисполненный гордости, с неожиданной силой сомкнул челюсти, боясь выдать звук восторга. Это были упоительные минуты.
Отчего-то не возникло обсуждение. Вероятно, отпустивший страх (за исчезновение волшебства), упокоение, минуты величественного созерцания наполнили торжеством бытия, риторические смыслы словес потеряли актуальность – в помещении царствовала природа.
Единожды только идиллия была прервана. Из коридора прибежал тусклый возглас:
– Нинка, ты где, паразитка, пропала! Больные ждут.
Нинка, конопатая, с остреньким носиком молодуха, сматерилась сквозь зубы и обречёно выдохнув, тронулась к выходу.
Впрочем, сеанс вскоре закончился. Произведение было нежно обернуто, и меня с добрейшими пожеланиями и настояниями беречь себя отправили отдыхать до следующего утра.
Вы же понимаете, что такое деревня. По пути следования домой каждый встретившийся селянин почитал своим долгом пожать мне руку. Пожилые дяди степенно останавливались, здоровались, потеребив кепку, осведомлялись о здоровье, далее переходили на политику, далее сетовали на разные житейские невзгоды и завершали рандеву деликатной просьбой высказать соображения относительно будущего урожая. Бабы кивали головами, говорили «здрасьсте», при этом как-то особенно вздрагивали их бюсты. Нечего и говорить, что фигура моя подвергалась некоему потайному досмотру. Даже девчонки-сверстницы (в быту мы воевали) задавали всякие посторонние вопросы, никогда прежде не произносимые. Правда, ниже моего лица их взгляды старательно не опускались.
Дверь нашей ограды беспрестанно хлопала – кто-либо приходил по разным поводам. Непосредственными оставались только мои корешки – скабрезили, салили шуточками. Правда, общаться с ним я пошел редко – дядя наущал беречь суть.
Еще невеликая ремарочка. Тем же вечером заходит Сашка Старицын. Захудалый мужик лет тридцати. Отчаянный добряк и полный инфант – он запросто водил игры с нами.
После разных ухищрений он отводит меня в проулок и произносит недоверчиво: «Слышь, Вито…» – пускается свирепо скрести щетинистую щеку.