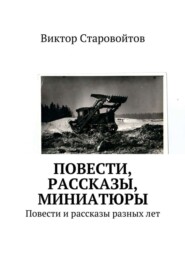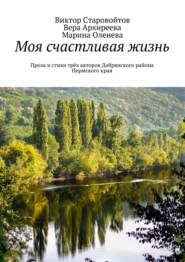По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красный луг. Приключенческий роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И всё же время не стояло на месте, настал и долгожданный день. Накануне Виктор с помощью матери подготовил форменный костюм, белую рубашку, -повесил на спинку стула. Вновь и вновь тряпочкой чистил ботинки. Несколько раз проверил содержимое школьного портфеля, всё ли было на месте. Мать от кого-то из соседей принесла букет поздних цветов, поставила до утра в банку с водой. До утра Виктор еле-еле дожил, поминутно вставая и поглядывая на часы ходики, изрядно поднадоев родителям. Чуть только кровать скрипнет, он уже глаза открыл, что, ма, в школу пора? И чуть только забрезжил рассвет, Виктор встал, тихонько оделся, выпил стакан молока с хлебом и был таков! Мать проснулась на скрип двери, окликнула, но сына и след простыл…
Школа была ещё закрыта. Учительнице, Друговой Марии Васильевне, тоже не спалось. Вот уже несколько лет после училища она каждый год встречает своих первоклашек 1 сентября, а всё привыкнуть не может, каждый раз волнуется, как в первый раз. Подходит 1 Сентября, подкатывает к сердцу нечто необъяснимое, тревожное, хочется поскорее войти в свой класс, увидеть ожидающе любопытные глазёнки, заглянуть в чистую душу каждого из них. Ей не спалось, хотелось пройти в школу до появления детей, затопить печь и просто посидеть в уединении и тишине за школьной партой, ещё пахнущей краской, вспомнить своё потаённое, из детской жизни, когда и сама так же с душевным трепетом пришла в свою первую школу к своей первой учительнице. Хотелось помечтать о своих учениках, представить их взрослыми… Будут ли они помнить свою первую учительницу? Господи, как же они в свой первый учебный день похожи на испуганных овечек, сбившихся в единую стаю… Заходишь в класс, притихнут все, сидят, не шелохнувшись, смотрят в самую душу безмолвным вопросом, что скажешь ты нам, дорогая ты наша? И ведь от того, с каким настроением придёшь, какие слова скажешь этим маленьким человечкам, зависит их дальнейшее отношение к тебе и учёбе. Именно в первый день важно к каждому из них найти свой, особый ключик, от которого зависит вся дальнейшая судьба маленького человечка. Именно из того, как он будет учиться, его умения слышать и слушать, будет становиться его характер, его будущая личность. И как же ей хотелось, чтобы все её ученики были если не гениями, то, по крайней мере, хорошими людьми. С мужем ей очень повезло, Александр Иванович всё понимает с полуслова, помогает во всём, понимает её волнение, её переживания. Двое своих дочерей подрастают, Вера и Наташа, в отце души не чают. Девчонки, а больше времени с отцом проводят…
Задолго до сентября Другова обошла всех родителей своих учеников, и теперь практически знала о своих учениках всё. В своём дневнике она скрупулёзно записывала все эти данные сведения и по мере необходимости использовала их в течении всего периода, что ученик находился на её попечении, то есть четыре начальных года. Учеников всего было около тридцати человек, все учились в одну смену, и как уж Марие удавалось управиться с ними, то было её маленьким секретом. Вот и в это утро Маша встала очень рано, попила чуть тёпленького чаю и хотела уже уйти, но заговорил муж:
– Что, Машенька, не спится? Волнуешься? Ну иди, я дома управлюсь сам, и девчонок соберу, не беспокойся…
Подходя к школе увидела съёжившуюся фигурку на скамеечке под тополем на берегу, угадала первоклассника, поспешила к нему.
– Здравствуй, Витя. Замёрз? Давно здесь? В школу пришёл? Ну идём, печку будем топить…
Виктор поднялся, протянул учительнице изрядно помятый букет цветов. Мария взяла ученика за руку, он доверчиво пошёл за нею.
– Какие цветы красивые! Это мне, да? А ручонки-то какие холодные… Ну ничего, сейчас печку затопим, а цветы в баночку поставим, водички подольём, чтобы окрепли. А ты где хочешь сидеть, за какой партой?
Виктор не ответил, он деловито осваивал парту около окна. Перед ним лежал раскрытый букварь и смотрел он на свою первую учительницу как-то совсем по взрослому, словно желая сказать, но не решаясь: – Ну что ж, давай учи, посмотрим, чему научишь!..
Он словно ждал чего-то необычного от этой женщины, которую знал и видел в селе ежедневно, ещё вчера простую, обыкновенную женщину, играл с её дочерьми, и которая вдруг сегодня стала его первой учительницей. Пройдут годы, много будет в жизни сегодняшних учеников новых хороших и плохих учителей, но память о первом звонке, первой учительнице, навсегда останется в их памяти. Марие Васильевне было как-то даже не по себе под пытливым взглядом маленького мужичка и она принесла из учительской альбом с картинками.
– Посмотри-ка вот это…
Топилась печь, причудливые тени прыгали по стенам от женщины, снующей между парт. Она не могла быть спокойной, ходила, лишь бы чем-то заняться, унять тревогу в сердце.
– Проучишься здесь четыре года, потом придётся ходить в Усть-Маш или даже жить там в интернате. Школа там большая и учителей будет много, а здесь я одна буду вас учить…
Утренний ветерок разогнал ночной туман, синичка постучала в окно, будто тоже просилась в ученики. Вскоре на улице зазвенели ребячьи голоса. Маша посмотрела на наручные часики.
– Ну что же, идём встречать…
Вслед за учительницей вышел и Виктор, завидев мать, степенно подошёл к ней.
– Ты мама, не беспокойся, я уже сам в ученики записался. Ты иди домой, я хорошо учиться буду. Я уже и в классе был, за партой сидел…
Ребятишек построили по классам на берегу напротив школы, Мария Васильевна сверилась с записями в журнале, провела перекличку, поздравила родителей и учеников с началом учебного года. Выступили с поздравлениями и наилучшими пожеланиями председатели Сельского Совета и колхоза, лесничества и леспромхоза. Некоторым ученикам, что работали летом в колхозе, были вручены ценные подарки и Грамоты. После этого учеников провели в школу. Парт хватило на всех, никто в обиде не остался. Радуясь началу занятий, встрече со старыми друзьями, школьники хлопали откидными крышками парт, шумели. Прозвенел звонок, неумело удерживаемый обеими руками первоклашки, притих класс. Рядом с Виктором сидела Верочка, старшая дочка учительницы, учившаяся во втором классе. Она, как и все остальные, смотрела на свою мать, будто видя её впервые.
– С сегодняшнего дня меня надо будет называть Марией Васильевной, а не тётей Машей, как звали до этого. Теперь вы все ученики и вам нужно привыкать к дисциплине. Буду учить вас тому, что знаю сама, считать, писать грамотно, читать интересные книги, видеть мир. Вам предстоит многому научиться, чтобы, когда станете совсем взрослыми и закончите учиться, вам было не стыдно жить наравне с другими людьми.
Не по детски серьёзно приступил Виктор к учебным занятиям, с первых слов он проникся большим уважением к учительнице, проникся чувством особой веры в важность написания всех этих палочек, крючочков и выводил их с особой тщательностью. В своём журнале против фамилии ученика Мария Васильевна выводила только одно слово «Отлично». В шумных играх на переменках Виктор особого участия не принимал, зачастую уткнётся в книгу, картинки рассматривает да мечтает о чём-то, не слышно его и не видно. Иногда Верочка вытаскивала его к ребятам, на улицу. Вера ему нравилась и он подчинялся ей, увлекался игрой на некоторое время. Верочка отвечала своему другу глубокой взаимностью, помогала в учёбе, порой даже защищала от слишком назойливых ребятишек.
Когда же начальная школа была прикрыта, однажды Виктор, зайдя в брошеное здание, обнаружил школьный журнал старых лет, открыл его и был приятно удивлён, видя во всех четырёх классах тех лет, что отстающих учеников у Друговой не было, аккуратным красивым почерком её неизменно выводилось «хорошо» и «отлично», и очень редко где проскакивало «удовлетворительно».
На занятия Виктор никогда не опаздывал, просыпался чуть ли не с первыми петухами и никакого ему будильника не надо было, на занятиях ловил каждое слово учительницы, иногда, забывшись, записывал в свою тетрадь условие задачи другого класса и очень переживал, если не мог самостоятельно решить. Читать научился от деда задолго до школьных занятий, знал решение простых задач и поэтому особых трудностей в учёбе не испытывал, а что было не понятным, то объясняла Верочка или сама учительница. Мария Васильевна всегда ревностно относилась к своим ученикам и, как и у всякого смертного, у неё были и свои любимчики, но к Виктору отношение было особое. Она с нескрываемым интересом наблюдала за его успехами, и всячески старалась помочь и поощрить его тягу к знаниям, ненавязчиво предлагая прочитать ту или иную книжицу. По тем временам школьная библиотека была довольно богатой на выбор, ведь школа являлась центром культуры села, поэтому и книги были не только по школьной программе, но и для взрослых, такие, как сочинения Маркса и Энгельса, Сталина и Ленина. Конечно же, не только к Виктору находила учительница сердечный ключик, так было с каждым из её учеников. Это позволяло добиваться высокой успеваемости и дисциплины. Дети души не чаяли от своей молодой учительницы, с большой неохотой покидали школу в конце занятий, да и она сама готова была проводить с ними чуть ли не полные сутки, если б ещё не было семейных забот… Она настолько порой увлекалась ихними играми, что забывала о времени и своём возрасте. Редко теперь встретишь по настоящему преданных своему делу учителей, а жаль, искренне говорю вам об этом. Сейчас на первое место вышли деньги, а дети стали побочным продуктом, некой необходимости для получения хорошей зарплаты. Вот и отсюда вывод, – заканчивают ученики школу, получают аттестат, а вспомнить практически нечего. И некого, вот что обидно… С большой неохотой покидали свою школу ученики после четвёртого класса. Родители не раз уже поднимали перед Сельским Советом и ГОРОНО вопрос о строительстве новой расширенной школы, чтобы не гонять поселковых детей в Усть-Маш, но вопрос этот долгое время всё лежал и лежал в дальнем конце столешницы чиновника и никак пока не решался. А ученикам старших классов ежедневно приходилось мотаться за несколько километров в Усть-Маш, не считаясь с погодой…
Лампочка Ильича
По Ленинскому плану ГОЭЛРО все, даже самые отдалённые сёла должны быть электрофицированы. По этому плану лампочка должна была давать надежду и свет даже при самой беспросветной нужде. Радио было проведено ещё в 1938 году, теперь же в каждом доме висел на стене приёмник, похожий на грязную тарелку. Железный, окрашенный серебристой краской, приёмник был и на улице, на столбе около Сельсовета и целый день орал на весь посёлок то новости, то песни. В военное лихолетье сходились люди к приёмнику, чтобы послушать сводку информбюро, своего Левитана. Кончилась война, на смену старому поколению пришло новое, но посёлок всё ещё жил по старинке с керосиновой лампой. Наконец дошла очередь и до него. Линию начали тянуть от Усть-Маша Прямушкой. У Весниных в семье случилось пополнение, родилась дочь Татьяна. А колхоз заброшенные во время войны земли восстановил, поднял все залежные земли и снова вышел в передовики, но со времени пришествия к власти, после смерти Сталина, Никиты Сергеевича Хрущёва, повсеместно лучшие плодородные земли отдавались под посевы кукурузы, царицы полей. Андрей воспротивиться не мог. Хотя и давно уже не было товарища Сталина и дамоклов меч не висел над головой, но страх, посеянный в души людей, был очень силён и выкорчевать этот страх, наверное, могло только новое поколение. Поэтому, решения партии выполнялись безукоснительно. Если приказано, значит, будем сеять кукурузу, а коль кому вздумается по всему Уралу цитрусовые садить, значит будем и их выращивать. На Дальнем Востоке садят, а мы что, хуже всех, что ли? Таким образом, вместо приличных урожаев картофеля и ржи, теперь на полях царствовала кукуруза, которая не успевала вызревать, не давала полноценных початков, а зелёная масса шла только на силосные корма.
Так вот, электролинию тянули от Усть-Маша. Вручную по чертежам копали ямы под столбы, вручную ставили столбы, расчищали просеку от зарослей. За одно лето управиться с объёмом работ не смогли и с началом снегопада работы прекратились. Степан Левдиков активно помогал бригаде монтёров, тянул комнатную электропроводку, ввинчивал лампочки, а к вечеру обычно напивался до беспамятства, всяк из жителей старался преподнести работникам кружечку-другую отборной брагульки, изготовленной по старинным рецептам. Запреты начальства не помогали, бражка вот она, а начальство где-то там, далеко. Бражка была в каждом доме, ею рассчитывались за любую проделанную работу, в любом застолье без неё не обходилось. К вечеру Степан так набирался, что уже не мог сам передвигаться и обычно сваливался на берегу. Жена отыскивала его, подсовывала под голову телогрейку и спокойно шла домой. Мужик он был здоровенный, крепкий и маленькой щуплой женщине тащить его домой было не под силу. Весной же, как только приехали монтёры, в первый же день Степан наклюкался до полной потери пульса, в сумерках оступился в яму с водой, и только утром уже его обнаружили и вытащили из ледяной воды. Утонул и замёрз. Жена его, оставшаяся с одиннадцатью детишками – погодками вздохнула с некоторым облегчением, разом избавившись от мужа алкоголика, пропивавшего в последнее время из дому всё, что плохо лежало. Жёнке уже надоедало следить за мужем, бегать и отбирать у деревенских бабёнок свои и детские вещи.
Виктор, да и другие деревенские ребятишки, любили слушать рассказы деда Федота, свата Левдиковых. Старик тоже любил бесхитростных, всему верящих, слушателей и, всякий раз для них придумывал какую-нибудь новую историю, при этом и сам верил в своё враньё. И не приведи Господь, если кто-то осмеливался перечить! Можно было на долгое время нажить врага. Старик на обидчика по – детски обижался, отворачивался, плевался, уходил или прогонял обидчика… Если, заигравшись, к старику никто не подходил, он тогда сам окликал ребят, подзывал к себе: – Эй, пацаны, подь сюда, чего скажу!..
Усевшись поудобнее вокруг старика, ребятишки приготавливались слушать, шикая друг на друга и постепенно успокаиваясь.
– Жил я раньше в стране Коми, это на севере Пермской области. Однажды долго ходил с ружьём, и за день подстрелил всего лишь одного косого, килограмм на пятьдесят весом, лохматый был, что ваша коза… Ну, так вот, устал я и присел отдохнуть на берегу ручейка под кустами, свои часы на веточку над собой повесил, чтобы рука немного отдохнула. Немного вздремнул, а потом домой ушёл, про часы начисто забыл. Дома хвать – часов нет. Поискал немного, да и забросил. Всё хотел новые купить, да всё недосуг было в город поехать. А ныне весной снова в Кудымкар к брату приехал, давно не был, с самых тех пор, как часы посеял… Пошёл опять на охоту в те же самые места. До ручья дошёл, уток пострелял, присел под кустом отдохнуть. Только слышу, будто часы тикают! Знать, бомба с часовым механизмом, со времён войны лежит, тикает, а ну как бабахнет! Перепужался, жуть, сижу, шевельнуться боюсь… Поднял глаза к небу, напоследок помолиться хотел, просить у Боженьки царствия небесного, глядь, а на ветке часы мои висят, тикают родные. Узнал я их, схватил и поскорее к брату побёг, чтоб домой ехать, старуху порадовать, а то всю выю перегрызла за часики, как-никак золотые были.. Что, не веришь? А вот послушай-ка, на руке они, тикают… А то вот в город ездил нынче. Ночью иду, вдруг двое из кустов и ко мне, драться, значит. Ну как дал я им, как дал! Не помню, как на своей квартире очутился, в однех трусиках и босиком… Ну лады, бегите, пострелята, ишь мать кого-то из вас домой кличет, потеряла небось. Да и мне пора, тож бабка заждалась…
Цыганское золото
Дядя Толя в обществе охотников и рыболовов кроме заготовки звериных шкурок занимался ещё кротоловством. Ставить же ловушки на кротов по лесным тропам, а затем дважды в день проверять, собирать и снимать шкурки с кротов было довольно муторно, и тогда на лето он перепоручил это занятие племяннику Виктору, зная, что тот не боится тайги. Принёс ему кротоловки, показал, как их устанавливать и укреплять, как снимать шкурки и растягивать на дощечке для просушки. Дал и молоток с гвоздиками, нож для работы. Тушки кротов даже собака не ела, приходилось уносить подальше и закапывать в овраге. Теперь Виктор вставал утром на рассвете и шёл по тропинке, осматривая кротоловки, собирая улов в корзинку, кроты почему-то довольно быстро помирали в корзинке, а затем так же быстро начинали портиться, поэтому нужно было как можно быстрее снять шкурку и высушить. По плану надо было сдать не менее 500 шкурок, по приёмной цене 14 копеек за шкурку.
В очередной раз проверив ловушки на кротов, Виктор пришёл к решению, что надо по тропе продвигаться дальше, на этом месте улов уже снизился до минимума. Собрав ловушки в корзинку, Виктор двинулся на хутор, где и занимался всем этим. Собрал шкурки, снова сложил ловушки в корзинку, поел, прихватил с собой молоток. Бабка Варя говорила, что где-то там есть малинник с хорошими крупными ягодами, не плохо бы было принесть на варенье, кроме того, сказывала, что там же встречаются интересные камешки. Поскольку Виктор интересовался минералами, то для этой цели и прихватил с собой молоток, чтобы откалывать окаменелости или что-то ещё, что понравится. Ружьё брать с собой не стал, зачем тащить лишнюю тяжесть, да и со зверьём лесным надо жить дружно. Звери не уважали и боялись охотников, могли и напасть внезапно, а на безоружного даже волки нападали редко. Впрочем, перед нападением волк выдаёт себя рычанием, тем самым не редко давая возможность жертве укрыться. Виктор ни зверей, ни змей не боялся и они знали это, и даже старались подружиться с ним. Встречи происходили часто, потому что Виктор любил лес и мог часами бродить по тайге в полном одиночестве или в сопровождении лесной зверушки-защитника. Виктор поднялся по тропе на увал, начал спускаться в овраг, по пути расставляя ловушки, здесь кротовых норок было больше. На всякий случай для разведки стал подниматься на следующий увал, здесь тоже норок хватало, на всё лето хватит… Спустился в овраг, пить захотелось, пошёл по оврагу в нижнюю часть, осматривая скалы. Под одной из них блеснул лёд. Молотком отколол кусочек льда, кинул в рот, как леденец. Под скалой было тихо, прохладно. Жажда проходила, и просто посидеть в тени камня было приятно. Виктор ещё несколько раз ударил по льду, и вдруг заметил подо льдом кусочек цветной тряпочки. Заинтересовался, стал освобождать тряпицу из подо льда, пытаясь определить, что находится в ней, чувствовалось, что там определённо что-то есть. Он не удивился бы, если б в тряпице оказался наган или боевая граната, но там оказался целый клад из старинных золотых монет, украшений и слитков золота. Виктор некоторое время разглядывал всё это богатство, затем сложил в корзинку, принёс находку на хутор. Дед, не притрагиваясь к вещам сначала долго разглядывал находку, затем сказал: – Варвара, подь-ка сюда, посмотри, чего внук принёс. Похоже, что заговоренное цыганское золото внучок обнаружил. И достань-ка из своего сундучка старую газетку, помнишь, я просил тебя сохранить её. Там про это золото всё и расписано.
Бабуля тоже рассматривала золотые украшения, глаза её поблескивали, но взять в руки не отваживалась, хотя внук брал всё спокойно. Виктор протянул бабке красивое ожерелье, бабка отшатнулась в испуге.
– Бабуля, смотри, какое хорошенькое, на, примерь…
Но бабка, не сказав ни слова, заторопилась к своей печи, крестясь на ходу и что-то бормоча про себя. Дед достал газетку, пожелтевшую от времени, осторожно развернул.
– Ну-ка, внучок, сравни своё богатство с этими.
– Очень похоже, дед.
– Значит, оно, цыганское проклятое золото, заговорённое умным человеком, ведой. Притрагиваться к нему нельзя, обожжёт. Вот, смотри…
Дед ткнул пальцем в украшение, сразу отдёрнул руку, на пальце моментально всплыл волдырь, как при сильном ожоге.
– А почему я не обжигаюсь?
– Не знаю, внук, но догадываюсь. Наверное потому, что ты чист душой, ещё не запятнан жизнью… Потому и далось тебе это золото. Только вот счастья оно никому дать не может, у тебя оно будет вечно лежать мёртвым грузом, обжигая всех, кто захочет поглазеть на него или украсть, но и ты сам им не сможешь воспользоваться, поскольку ни продать, ни подарить его будет нельзя. Ещё до революции здесь объявился цыганский табор, лошадей и другую домашнюю живность воровали, людей обманывали. Хороших украденных лошадок перегоняли в Башкирию, там в городе Уфе продавали. Как-то украли несколько элитных лошадок у тавринского конезаводчика Таврова, обидели богача, ну он не будь дураком, дороги на Башкирию перекрыл, солдат вызвал из Красноуфимска и начал цыган преследовать. Побросали они свои кибитки и добро своё, укрылись в лесу в районе исчезающего озера. Почему Тавру Таврой прозвали? Ну наверное по фамили конезаводчика, а то может из-за клейма, что ставили на холке лошади с хозяйской меткой, таврили, тавро ставили. По этой метке находили лошадей. Нет, в округе я это озеро не встречал за свою жизнь, и Варвара не видела. Андрей как-то выходил на него, ты спроси у него, если интересуешься. Солдаты всё же настигли цыган, окружили у озера и побоище устроили, никого, даже грудных детей, не пощадили. А одна цыганка, веда, шувани по ихнему, пораненная, цыганское золото успела спрятать и проклятие наслать на солдат. Сама она тоже погибла вместе со всеми. А солдат тех тоже больше никто не видел, не вернулись из тайги, исчезли бесследно. Деревенские как-то прознали про золото, даже в Отечественную искали, хотели клад в фонд Обороны сдать, да так и не нашли. После войны экспедиция учёных приезжала и тоже ничего не обнаружили, никаких следов. Заметка в газете написана по памяти цыганом из другого табора, видевшим сокровища через свою бывшую невесту, дочь Баро и Шувани. Много было охотников до этого клада, но никому оно не далось, видимо с не чистой совестью искали его люди. Тебе повезло, только вот воспользоваться ты им всё равно не сможешь. Отнеси-ка ты этот клад к пещёре, что я тебе показывал, когда ходили смотреть на проделки урагана. Возможно, женщине-змее золото это пригодится…
Виктор по младости лет не обратил внимания на дедовы слова о неведомой женщине и не стал ничего расспрашивать. Идти до пещёры было не далеко и Виктор, увязав драгоценности покрепче, отнёс их и бросил в пещёру. Около ноги прошмыгнула чёрная змейка, но Виктор не обратил на неё внимания, вернулся обратно. Больше о золоте не упоминалось, но память возвращала Виктора постоянно к озеру, и в один из погожих деньков Виктор отправился на поиски этого озера, правильно рассудив, что озеро должно находиться где-то в районе найденного клада. Про озеро рассказал и отец, однажды заблудившийся в тайге на охоте. Он даже ночевал в избушке на берегу озера, и даже попользовался рыбой, которой в озере было очень много. Виктор спрашивал про озеро и у лесника, жившего в Ахманке, и вроде бы знавшего лесной массив очень хорошо, но и он ничего не знал. Отец тогда от озера выбрался по оврагу к реке Уфе, но далеко за пределами посёлка и гораздо ниже Усть-Маша. Позднее пробовал разыскать озеро, но тоже не нашёл. Виктор дошёл до скалы, где был клад, постоял, прислушиваясь, но кроме цокания белочки ничего не услышал. Стал спускаться по оврагу куда-то вниз, и вдруг из-за кустов открылась водная гладь. Неужели озеро! Да, это было самое настоящее озеро, с чистейшей ледяной водой и множеством рыбы всех видов и размеров. Казалось, что рыба сама просится на уху! Озеро было не большим, около пятисот метров в диаметре, но глубоким. А вот и избушка, про которую говорил отец. На полочке старое кресало, пучок мха для растопки, в берестяной коробочке соль. Кто жил здесь, когда? За домиком полусгнивший сак, старые грабли… Виктор разжёг костёр на старом кострище, рубашкой поймал рыбину, поджарил. Сидел у костра, смотрел на озеро, и было удивительно спокойно и хорошо. Появился туман, какой-то не белый, а серый, мутный. На середине озера образовалась воронка, и вода озера начала уходить в воронку, унося с собой и рыбу. Так вот оно что, озеро-то не всегда есть, видимо изредка появляется и не каждому дано увидеть его. До утра Виктор пролежал у костра, но озеро больше не вернулось. Утром по влажной гальке дошёл до провала, держась за кусты, заглянул вниз. Где-то очень далеко внизу поблескивала вода и доносился ровный мощный гул, словно из топки кочегарки при хорошей тяге. Подобрал зазевавшихся и оставшихся на поверхности щурят и окуней, положил в корзинку, и зашагал восвояси. Много тайн хранит Урал!
Соколиный камень
Андреевы братья, Толя и Федя, пока тоже жили на Красном лугу. Поставили себе дома при помощи жителей, помочью. В данном случае от хозяина требовался только приличный запас бражки, и всякая помочь в конце превращалась во всеобщее гулянье. На берегу из плах или досок сооружался импровизированный стол, притаскивались из домов скамейки, и начиналось веселье. На стол тоже приносили всё, кто что мог, солёные грибочки, квашеную капустку, хлеб, огурцы, лук. Дед Федот был не заменимым участником всех мероприятий, проводившихся на селе, в нужное время неизменно приходил на помощь, шутливо покрикивал на работников, командовал, если была в том нужда. Иногда и сам подносил нужную дощечку, подавал гвоздь. Знал дед, что первый бражный стаканчик и Почётное место за столом на берегу всегда будут его. Ответно просили люди старика рассказать что-нибудь интересное, произнести тост. А знал дед не мало. Усаживался дед поудобнее на специально для него принесённом полумягком стульчике, хлебнув глоток-другой вкусной бражки, начинал свой рассказ, то ли только что придуманную им самим, то ли услышанную когда-то от стариков. Сколько лет было самому старику, никто не знал, в том числе и он сам. Паспорта у старика не было, потерял как-то в городе, а новый выхлопотать так и не удосужился, так и жил себе. А церковные метрики были надёжно упрятаны его женой как от посторонних глаз, так и от стариковских. А теперь и сама жена упокоилась недавно, унеся и тайну рождения своего старика с собой. Впрочем, в деревне никому не было дела до стариковских документов и до его лет, уважали старика за его безобидный характер, готовность всегда прийти на помощь, что по его годам не всегда ему удавалось, но на него и не обижались… На помочь людей не приглашали, в деревне сарафанное радио действует быстрее, и все всегда знают, когда нужно прийти на помощь. Итак, дед Федот отпил ещё глоток пенистого напитка, крякнул, хваля хозяев, махнул рукой в сторону заречных скал, зависших над осыпью у берега.
– Видите? Вон та скала, что справа… Всем довелось побывать на ней хотя бы раз в жизни и все знаете, что наверху она похожа на небольшую круглую комнату. Скамейки есть, только столика не хватает. Да только тем, кто благоустраивал её, стол и не нужен был. Имеются в стенах и не большие ниши, что к реке выходит. Обзор со скалы отличный. А кто может сказать, для чего это? То-то же! Мне мой прадед рассказывал, что было раньше восстание на Руси супротив батюшки царя. Давно это было, не при мне… Поднялись люди на борьбу за лучшую долю свою, доведённые произволом царских чиновников до отчаяния. Не равными были те силы, у бедняков не было хорошего оружия, не было и опыта ведения боевых действий. Регулярные войска расправлялись с повстанцами беспощадно, не щадили при этом ни женщин, ни детей. Виселицами украсилась Россия… Преследуемая ими горстка повстанцев укрылась на этом камне, впоследствии прозванном жителями Красного луга Соколиным. Имена тех героев остались не известными, а скала осталась – вечный памятник борцам за свободу!
Порешили повстанцы, утомлённые долгими скитаниями по уральской тайге, дать свой последний бой царским воякам, умереть на свободе. Жители на первое время помогли им с едой и боеприпасами. А царское войско уже тут как тут, стоят на берегу, радуются, кричат, чтобы сдавались. От берега на скалу идёт только узенькая тропинка почти по отвесной горе, по ней пройти только одному можно. Другой дороги нет. Вот по этой тропинке и пытались солдаты взобраться на скалу. Только не тут-то было! Сама природа встала на защиту повстанцев. Откуда не возьмись, сверху скатывался на солдат большой камень, или неожиданно множество змей-гадюк нападало на солдат, или медведь крушил всё вокруг, волки и лисы нападали на стойбище солдатское, нанося большой урон, уничтожая съестное и боеприпасы. Да и сами повстанцы отстреливались из ружей и луков, метко разя врага, закидывая нападающих камнями.
Среди повстанцев был маленький по годам и росту паренёк, храбрец и удалец не по годам, и был у него приручённый сокол-птица. Этот сокол в привязанном к лапке горшочке с реки приносил воду и, помимо этого, днём и ночью неусыпно сторожил тропинку, своевременно давая знать о приближении врага. Заготовленными камнями и стрелами осыпали повстанцы всех, кто пытался подкрасться не заметно. Хорошо укрытые и своевременно предупреждаемые соколом, они были не досягаемы для солдат. Много дней и ночей было проведено в осаде, не мало врагов полегло от рук повстанцев, но увы, всему приходит конец! Голод пробрался на скалу… Закончилась последняя крошка хлеба и тогда старшой предложил:
– Друзья мои, у кого нет сил продолжать борьбу, идите в горы. Медведко выведет вас.
Его прервали:
– Как ты можешь предлагать такое? Мы прошли с тобой все муки ада… И даже уйдя в горы, мы не обретём свободы, постепенно нас всех рано или поздно выловят и тогда каторги уж точно не избежать, если на виселицу не отправят. Нет, не ради этого мы брались за оружие, будем биться, пока есть на то воля Божья!
Один за другим погибали отважные воины в рукопашных схватках, но никто не пожаловался, умирая, не сказал товарищам слова упрёка. Враги проследили за соколом и убили его, бездыханный трупик уносила река… Последним живым оставался парнишка, был он тяжело ранен, жажда мучила его. Нещадно палило солнце и некуда от него было укрыться. Лежал парнишка среди трупов своих товарищей и смотрел на тропу. Завидев голову солдата, послал в него последнюю стрелу. Пользуясь наступившим замешательством среди солдат, вполз на край скалы и скатился вниз, на острые камни у подножия скалы. Долго ещё не решались подняться на скалу солдаты, а когда поднялись, то увидели лишь трупы. Поскидали солдаты несчастных, но свободных, со скалы, запретив сельчанам хоронить их, но те не послушались. Когда солдаты ушли, жители на лодках перевезли трупы повстанцев в посёлок и с великими почестями захоронили на кладбище. Был поставлен и крест, по христианскому обычаю над ихней братской могилой, но со временем сгнил и исчез с лика земли…