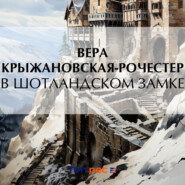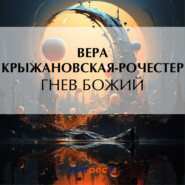По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Эликсир жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не огорчайся, сын мой, нашей разлукой! Повторяю тебе: моя душа останется близка тебе и явится, когда это будет необходимо, чтобы поддержать и утешить тебя, – сказал Эбрамар, пожимая ему руку.
– О! Если бы только я знал, что скоро сделаюсь достойным вернуться сюда. Никогда, учитель, и нигде не был я так спокоен и не чувствовал такой глубокой отрады; одним словом, я был здесь очень счастлив, и боюсь, что когда вернусь в вихрь света, страсти снова овладеют мной.
– Без всякого сомнения, сын мой, тебе предстоит победить не одну слабость, прежде чем ты приобретешь презрение ко всем земным наслаждениям, – с улыбкой заметил Эбрамар. – Что же касается покоя и гармонии чувств, которые делают дорогим для тебя мое мирное убежище труда, то ты найдешь их в церквях, тишина и спокойствие которых укрепят твою душу, а отчасти в монастырях, где жизнь действительно строга и полна отрешения от мира. Одним словом, всюду, где исключены человеческие страсти, ты будешь окружен таким же веянием счастливого покоя.
Затем разговор незаметно перешел на Нарайяну, и Эбрамар упомянул несколько фактов его неудачных попыток достигнуть высшего посвящения.
Супрамати вдруг вспомнил про Лилиану. Рассказав в кратких словах обстоятельства, открывшие это преступление, он спросил, что такое представляет ее странное состояние: смерть или скрытую жизнь?
– Если ее можно вернуть к нормальному состоянию, то будь добр, учитель, научи, как надо действовать; если же она умерла, то я хотел бы похоронить несчастную по христианскому обряду, а не оставлять ее в стеклянном ящике, как любопытную редкость.
– Мне уже известно это последнее преступление Нарайяны, вдвойне отвратительное по тому легкомыслию, с каким он пользовался веществом, свойства которого недостаточно изучил, и тем причинил этой женщине ужасные мучения. Она не умерла, но погружена в состояние, похожее на летаргический сон, с тою разницей, что она все время находится в полном сознании, чувствуя при этом голод и жажду, боль раны и ужас вечно остаться в таком невыносимом состоянии.
Время положить конец этим страданиям. Я дам тебе одно вещество, которое хотя и не эликсир жизни, но его будет достаточно, чтобы вернуть ее к жизни. Подробная инструкция, как поступать, будет приложена к медикаментам. Теперь скажу только, что тебе надо будет посадить ее в теплую ванну, причем ты не должен пугаться, когда из раны ручьем польется кровь.
Затем ты положишь ее на кровать, перевяжешь рану, положив на нее мазь, которую я дам, и вольешь ей в рот немного теплого вина, так как она похолодеет и будет иметь вид мертвой. Когда летаргия совершенно рассеется, она откроет глаза, но почти тотчас же впадет в глубокий сон, который продлится не менее трех дней. Когда она проснется, ты дашь ей есть, но только не мясо, а молоко и овощи. После этого она совершенно оправится и может делать, что ей угодно, даже снова вернуться к своей веселой жизни, так как жить она будет очень долго.
– Она приняла эликсир жизни?
– Нет, Нарайяна влил его только в рану, а это производит совершенно иное действие, чем когда эликсир вводится в желудок, – ответил Эбрамар, вставая и отправляясь за медикаментами.
На рассвете следующего дня Супрамати простился с Эбрамаром и уехал в Бенарес, где Нурвади встретила его с искренней радостью, которая очень тронула его, и решение как можно скорей покинуть Индию сильно поколебалось.
Безграничная любовь молодой женщины, затем спокойная, полная роскоши жизнь в этом волшебном дворце и даже красота природы Индии – этого действительно райского уголка, – все способствовало тому, чтобы удержать его, несмотря на упреки совести, твердившие ему, что честь предписывает вернуться к Наре, а чувство человеколюбия обязывает освободить несчастную Лилиану от ужасных мук.
Несмотря на все эти серьезные доводы, Супрамати не двигался из Бенареса, а рождение сына заставило его даже на время забыть все остальное. Поток новых чувств наполнил его сердце и он страстно привязался и маленькому существу, большие и блестящие глазки которого ласково и доверчиво смотрели на него. Мысль о разлуке с сыном до такой степени была тяжела ему, что прошло еще шесть месяцев, прежде чем он смог решиться уехать.
Однажды, когда он подсчитал, что находится в Индии уже около полутора лет, им овладели стыд и смущение. Что подумает о нем Нара? От нее он не получал никакого известия. Обвиняли его также, – и обвиняли вполне справедливо, – страдания несчастной Лилианы. Да, надо покончить со всем этим и уезжать! Время от времени он будет навещать своего ребенка: этого никто не мог запретить ему.
Боясь своей собственной нерешительности, он в тот же день объявил Нурвади, что неотложные дела призывают его в Европу и что он уезжает через несколько дней.
Та побледнела и глаза ее наполнились слезами, но она не протестовала. Обвив руками шею своего возлюбленного, она пробормотала сквозь слезы:
– Ты мне дал столько счастья, что я не имею права жаловаться; ты мне отдал свою любовь, оставил ребенка – как живую о тебе память, – и воспитание его наполнит мою жизнь. Обещай мне только, что ты не совсем забудешь нас и будешь иногда навещать своего сына, чтобы он знал отца и хоть изредка мог бы насладиться твоей любовью и твоими ласками.
Глубоко взволнованный, Супрамати прижал молодую женщину к своей груди.
– Обещаю тебе, Нурвади, никогда не забывать вас и навещать тебя и ребенка так часто, как только будет возможно. Я увожу с собой ваши портреты, а ты будешь писать мне по адресу, который я оставлю.
С тяжелым сердцем Супрамати стал готовиться к отъезду. Предстоящая разлука была невыразимо тягостна для него.
В эту минуту он был совершенно равнодушен к законной супруге, данной ему братством, и красота Нары как бы изгладилась и потонула, в чувстве отцовской любви, наполнявшей его сердце.
Вдруг в нем зародилась новая боязнь, что ребенок умрет, и он не увидит его больше, а бедная Нурвади останется совершенно одинокой, потеряв их обоих. Но спасение найдено: у него в руках верное средство не дать ребенку умереть… Кто может помешать ему или поставить упрек, если он обезопасит и сохранит жизнь самому близкому и дорогому существу?
На таком решении он успокоился. В ночь, предшествовавшую его отъезду, он тихо прошел в комнату, где в тростниковой колыбели мирно спал ребенок, покрытый легким шелковым одеялом. Рядом с колыбелью, на полу, крепко спала молодая нянька-индуска.
Супрамати опустился на колени и долго смотрел на очаровательного малютку. Да, он хотел видеть его вечно здоровым и красивым, он обезопасит его жизнь от всяких случайностей.
Приготовив четверть той порции эликсира жизни, какую дают взрослому человеку, он влил его при помощи ложки в розовый ротик ребенка. Эффект получился поразительный. Ребенок забился в судорогах, а затем вытянулся и похолодел.
Побледнев от ужаса, Супрамати взял его на руки и, не зная, что делать, вынес на террасу, думая, что свежий воздух поможет ему; но малютка не двигался. Дыхание остановилось и биение сердца не было слышно.
– Господи! Неужели я убил его? Но нет, это невозможно! – пробормотал он растерянно, кладя ребенка обратно в колыбель.
Удивленная его отсутствием, Нурвади встала. Не найдя Супрамати в кабинете, она решила пройти в детскую и, тихо приподняв портьеру, увидела его склонившимся над колыбелью. Подумав, что горечь разлуки заставила его прийти в последний раз взглянуть на веселое личико сына, она счастливо улыбнулась и тихо, незаметно ушла.
Прошло более двух часов – часов невыразимо томительной для Супрамати тоски. Наконец, вздох облегчения вырвался у него из груди. На щечках ребенка выступил легкий румянец, а глубокое и правильное дыхание указывало, что он крепко спит.
На следующее утро, печальный, с тяжелым сердцем покидал он Бенарес, и несколько дней спустя отплыл в Европу.
Супрамати решил прямо поехать в Париж, чтобы поскорей разбудить несчастную Лилиану и запросить Нару, когда он может приехать к ней. Благополучно прибыв в Париж и войдя в свой отель, он строго запретил слугам распространять весть о своем приезде. Он знал, что виконт и вся театральная богема, подобно стае коршунов, немедленно же обрушатся на него; а он хотел быть свободным и спокойным, по крайней мере, несколько дней.
Он отдохнул, поужинал и заперся в своей комнате, запретив кому бы то ни было беспокоить себя.
Затем он достал из чемодана шкатулку из кедрового дерева, которую ему дал Эбрамар, и открыл ее. В ней находились большой флакон с бесцветной жидкостью, банка с мазью, похожей на воск, но мягкой и жирной на ощупь, и два пузырька: один зеленый, другой пурпурный. Кроме того, там же лежала бумага с подробным указанием мудреца, как употреблять эти средства.
Перечитав внимательно несколько раз наставление, он нажал пружину и вошел в таинственное помещение. Там все было по-прежнему.
Супрамати зажег все лампы и свечи, приготовил белье, повязки и постель – одним словом, все, что могло ему понадобиться. Затем он открыл краны и наполнил ванну. Нарайяна, очевидно, умел заставить хорошо служить себе, так как вода оказалась теплой, хотя Супрамати не приказывал нагревать ее, чтобы не выдать тайны того, что собирался делать.
Смеясь в душе над утонченной прихотью своего предшественника, он подошел к стеклянному ящику и откинул закрывавшее его покрывало. Вид Лилианы нисколько не изменился. Но каким образом вынуть тело из герметически закрытого ящика, наполненного жидкостью, которая могла и повредить ему?
После зрелого размышления он вернулся в свою комнату, надел высокие непромокаемые сапоги и кожаные перчатки, а затем вооружился молотком и щипцами. Потом он сложил близ ящика белье и поставил полную корзину песка, найденную в гардеробной. Окончив эти приготовления, Супрамати ударом молотка разбил стенку ящика в ногах и жидкость с шумом разлилась по паркету. Оторвав затем крышку, он поднял Лилиану, совершенно потерявшую тяжесть обыкновенного тела, перенес в соседнюю комнату на диван, где уже раньше были положены им подушки и одеяло. Разрезав ножницами рубашку и отбросив щипцами лоскутья, Супрамати быстро опустил Лилиану в теплую ванну, поддерживая полотняной тесьмой ей голову и корпус, чтобы она не ушла в воду.
Теперь он увидел на боку молодой женщины рану, имевшую вид широкого и глубокого кровавого разреза, затянутого тонкой кожицей. Опытному взгляду врача было ясно, что подобная рана при обыкновенных условиях была безусловно смертельна.
Супрамати был человек и с нескрываемым восхищением смотрел на чудное молодое тело и идеальные формы, достойные резца скульптора.
– Решительно, Нарайяна был сибарит во всех отношениях, – думал Супрамати, выливая в ванну треть большого флакона.
Затем он сел с часами в руках, чтобы выждать четверть часа, как это было указано в инструкции Эбрамара.
Вода быстро приняла чудный голубой оттенок, и не прошло двух минут, как в неподвижном лице Лилианы начало проявляться легкое движение: задрожали ресницы, стал дергаться рот и нервная дрожь пробежала по всем членам. Затем рана приняла темно-багровый оттенок, открылась и из нее брызнула обильная струя материи, черной, как чернила.
Через четверть часа вода сделалась черной и стала издавать острый и удушливый запах. Супрамати выпустил ее, снова наполнил ванну и влил в нее вторую треть жидкости. Почти тотчас же из раны потекла алая кровь, и притом в таком изобилии, что при нормальных условиях смерть должна была последовать от истощения. Тем не менее в состоянии больной не произошло никакой неблагоприятной перемены; напротив, стало проявляться слабое и неправильное, но вполне заметное дыхание.
По истечении предписанного времени Супрамати выпустил окровавленную воду и влил в свежую остальное содержимое флакона. На этот раз вода не изменила вида и осталась бледно-голубой и прозрачной. Рана же приняла вид обыкновенной затягивающейся раны.
Тогда Супрамати перенес больную на диван, положив на рану кусок полотна с мазью и наложил повязку с искусством опытного врача. Тщательно вытерев тело и волосы, он завернул Лилиану в одеяло так, что она походила на мумию и не была в состоянии пошевельнуться, а потом перенес ее на кровать и влил ей в рот ложку красной жидкости одного из пузырьков.
Дрожь пробежала по телу молодой женщины. Затем из ее груди вырвался нечеловеческий крик, – и она открыла глаза. В этих больших, темных, бархатных глазах отразилось такое страдание, блеснула такая безмолвная жалоба, каких Супрамати никогда еще не видал в человеческом взгляде.
Он вздрогнул от жалости и сострадания. Да, Эбрамар прав: несчастная Лилиана должна была переносить адские муки. Впрочем, он не успел сказать и слова, как веки больной опустились, а она снова впала в неподвижность, но на этот раз неподвижность была вызвана глубоким и благодатным сном.
Супрамати опустил шторы на окнах и сообразно с инструкцией Эбрамара вылил в небольшой тазик содержимое зеленого флакона, благодаря чему комната наполнилась благоухающим ароматом. Но каково было его удивление, когда он увидел, что из таза спиралью поднимается густой зеленоватый пар, который тянулся к кровати и как бы всасывался телом спящей.
В течение нескольких минут смотрел он на это странное зрелище, а потом вернулся в свою комнату. Так как совершенная им работа заняла более трех часов и возбудила в нем аппетит, то он вымылся, поужинал и лег спать, очень довольный.
– О! Если бы только я знал, что скоро сделаюсь достойным вернуться сюда. Никогда, учитель, и нигде не был я так спокоен и не чувствовал такой глубокой отрады; одним словом, я был здесь очень счастлив, и боюсь, что когда вернусь в вихрь света, страсти снова овладеют мной.
– Без всякого сомнения, сын мой, тебе предстоит победить не одну слабость, прежде чем ты приобретешь презрение ко всем земным наслаждениям, – с улыбкой заметил Эбрамар. – Что же касается покоя и гармонии чувств, которые делают дорогим для тебя мое мирное убежище труда, то ты найдешь их в церквях, тишина и спокойствие которых укрепят твою душу, а отчасти в монастырях, где жизнь действительно строга и полна отрешения от мира. Одним словом, всюду, где исключены человеческие страсти, ты будешь окружен таким же веянием счастливого покоя.
Затем разговор незаметно перешел на Нарайяну, и Эбрамар упомянул несколько фактов его неудачных попыток достигнуть высшего посвящения.
Супрамати вдруг вспомнил про Лилиану. Рассказав в кратких словах обстоятельства, открывшие это преступление, он спросил, что такое представляет ее странное состояние: смерть или скрытую жизнь?
– Если ее можно вернуть к нормальному состоянию, то будь добр, учитель, научи, как надо действовать; если же она умерла, то я хотел бы похоронить несчастную по христианскому обряду, а не оставлять ее в стеклянном ящике, как любопытную редкость.
– Мне уже известно это последнее преступление Нарайяны, вдвойне отвратительное по тому легкомыслию, с каким он пользовался веществом, свойства которого недостаточно изучил, и тем причинил этой женщине ужасные мучения. Она не умерла, но погружена в состояние, похожее на летаргический сон, с тою разницей, что она все время находится в полном сознании, чувствуя при этом голод и жажду, боль раны и ужас вечно остаться в таком невыносимом состоянии.
Время положить конец этим страданиям. Я дам тебе одно вещество, которое хотя и не эликсир жизни, но его будет достаточно, чтобы вернуть ее к жизни. Подробная инструкция, как поступать, будет приложена к медикаментам. Теперь скажу только, что тебе надо будет посадить ее в теплую ванну, причем ты не должен пугаться, когда из раны ручьем польется кровь.
Затем ты положишь ее на кровать, перевяжешь рану, положив на нее мазь, которую я дам, и вольешь ей в рот немного теплого вина, так как она похолодеет и будет иметь вид мертвой. Когда летаргия совершенно рассеется, она откроет глаза, но почти тотчас же впадет в глубокий сон, который продлится не менее трех дней. Когда она проснется, ты дашь ей есть, но только не мясо, а молоко и овощи. После этого она совершенно оправится и может делать, что ей угодно, даже снова вернуться к своей веселой жизни, так как жить она будет очень долго.
– Она приняла эликсир жизни?
– Нет, Нарайяна влил его только в рану, а это производит совершенно иное действие, чем когда эликсир вводится в желудок, – ответил Эбрамар, вставая и отправляясь за медикаментами.
На рассвете следующего дня Супрамати простился с Эбрамаром и уехал в Бенарес, где Нурвади встретила его с искренней радостью, которая очень тронула его, и решение как можно скорей покинуть Индию сильно поколебалось.
Безграничная любовь молодой женщины, затем спокойная, полная роскоши жизнь в этом волшебном дворце и даже красота природы Индии – этого действительно райского уголка, – все способствовало тому, чтобы удержать его, несмотря на упреки совести, твердившие ему, что честь предписывает вернуться к Наре, а чувство человеколюбия обязывает освободить несчастную Лилиану от ужасных мук.
Несмотря на все эти серьезные доводы, Супрамати не двигался из Бенареса, а рождение сына заставило его даже на время забыть все остальное. Поток новых чувств наполнил его сердце и он страстно привязался и маленькому существу, большие и блестящие глазки которого ласково и доверчиво смотрели на него. Мысль о разлуке с сыном до такой степени была тяжела ему, что прошло еще шесть месяцев, прежде чем он смог решиться уехать.
Однажды, когда он подсчитал, что находится в Индии уже около полутора лет, им овладели стыд и смущение. Что подумает о нем Нара? От нее он не получал никакого известия. Обвиняли его также, – и обвиняли вполне справедливо, – страдания несчастной Лилианы. Да, надо покончить со всем этим и уезжать! Время от времени он будет навещать своего ребенка: этого никто не мог запретить ему.
Боясь своей собственной нерешительности, он в тот же день объявил Нурвади, что неотложные дела призывают его в Европу и что он уезжает через несколько дней.
Та побледнела и глаза ее наполнились слезами, но она не протестовала. Обвив руками шею своего возлюбленного, она пробормотала сквозь слезы:
– Ты мне дал столько счастья, что я не имею права жаловаться; ты мне отдал свою любовь, оставил ребенка – как живую о тебе память, – и воспитание его наполнит мою жизнь. Обещай мне только, что ты не совсем забудешь нас и будешь иногда навещать своего сына, чтобы он знал отца и хоть изредка мог бы насладиться твоей любовью и твоими ласками.
Глубоко взволнованный, Супрамати прижал молодую женщину к своей груди.
– Обещаю тебе, Нурвади, никогда не забывать вас и навещать тебя и ребенка так часто, как только будет возможно. Я увожу с собой ваши портреты, а ты будешь писать мне по адресу, который я оставлю.
С тяжелым сердцем Супрамати стал готовиться к отъезду. Предстоящая разлука была невыразимо тягостна для него.
В эту минуту он был совершенно равнодушен к законной супруге, данной ему братством, и красота Нары как бы изгладилась и потонула, в чувстве отцовской любви, наполнявшей его сердце.
Вдруг в нем зародилась новая боязнь, что ребенок умрет, и он не увидит его больше, а бедная Нурвади останется совершенно одинокой, потеряв их обоих. Но спасение найдено: у него в руках верное средство не дать ребенку умереть… Кто может помешать ему или поставить упрек, если он обезопасит и сохранит жизнь самому близкому и дорогому существу?
На таком решении он успокоился. В ночь, предшествовавшую его отъезду, он тихо прошел в комнату, где в тростниковой колыбели мирно спал ребенок, покрытый легким шелковым одеялом. Рядом с колыбелью, на полу, крепко спала молодая нянька-индуска.
Супрамати опустился на колени и долго смотрел на очаровательного малютку. Да, он хотел видеть его вечно здоровым и красивым, он обезопасит его жизнь от всяких случайностей.
Приготовив четверть той порции эликсира жизни, какую дают взрослому человеку, он влил его при помощи ложки в розовый ротик ребенка. Эффект получился поразительный. Ребенок забился в судорогах, а затем вытянулся и похолодел.
Побледнев от ужаса, Супрамати взял его на руки и, не зная, что делать, вынес на террасу, думая, что свежий воздух поможет ему; но малютка не двигался. Дыхание остановилось и биение сердца не было слышно.
– Господи! Неужели я убил его? Но нет, это невозможно! – пробормотал он растерянно, кладя ребенка обратно в колыбель.
Удивленная его отсутствием, Нурвади встала. Не найдя Супрамати в кабинете, она решила пройти в детскую и, тихо приподняв портьеру, увидела его склонившимся над колыбелью. Подумав, что горечь разлуки заставила его прийти в последний раз взглянуть на веселое личико сына, она счастливо улыбнулась и тихо, незаметно ушла.
Прошло более двух часов – часов невыразимо томительной для Супрамати тоски. Наконец, вздох облегчения вырвался у него из груди. На щечках ребенка выступил легкий румянец, а глубокое и правильное дыхание указывало, что он крепко спит.
На следующее утро, печальный, с тяжелым сердцем покидал он Бенарес, и несколько дней спустя отплыл в Европу.
Супрамати решил прямо поехать в Париж, чтобы поскорей разбудить несчастную Лилиану и запросить Нару, когда он может приехать к ней. Благополучно прибыв в Париж и войдя в свой отель, он строго запретил слугам распространять весть о своем приезде. Он знал, что виконт и вся театральная богема, подобно стае коршунов, немедленно же обрушатся на него; а он хотел быть свободным и спокойным, по крайней мере, несколько дней.
Он отдохнул, поужинал и заперся в своей комнате, запретив кому бы то ни было беспокоить себя.
Затем он достал из чемодана шкатулку из кедрового дерева, которую ему дал Эбрамар, и открыл ее. В ней находились большой флакон с бесцветной жидкостью, банка с мазью, похожей на воск, но мягкой и жирной на ощупь, и два пузырька: один зеленый, другой пурпурный. Кроме того, там же лежала бумага с подробным указанием мудреца, как употреблять эти средства.
Перечитав внимательно несколько раз наставление, он нажал пружину и вошел в таинственное помещение. Там все было по-прежнему.
Супрамати зажег все лампы и свечи, приготовил белье, повязки и постель – одним словом, все, что могло ему понадобиться. Затем он открыл краны и наполнил ванну. Нарайяна, очевидно, умел заставить хорошо служить себе, так как вода оказалась теплой, хотя Супрамати не приказывал нагревать ее, чтобы не выдать тайны того, что собирался делать.
Смеясь в душе над утонченной прихотью своего предшественника, он подошел к стеклянному ящику и откинул закрывавшее его покрывало. Вид Лилианы нисколько не изменился. Но каким образом вынуть тело из герметически закрытого ящика, наполненного жидкостью, которая могла и повредить ему?
После зрелого размышления он вернулся в свою комнату, надел высокие непромокаемые сапоги и кожаные перчатки, а затем вооружился молотком и щипцами. Потом он сложил близ ящика белье и поставил полную корзину песка, найденную в гардеробной. Окончив эти приготовления, Супрамати ударом молотка разбил стенку ящика в ногах и жидкость с шумом разлилась по паркету. Оторвав затем крышку, он поднял Лилиану, совершенно потерявшую тяжесть обыкновенного тела, перенес в соседнюю комнату на диван, где уже раньше были положены им подушки и одеяло. Разрезав ножницами рубашку и отбросив щипцами лоскутья, Супрамати быстро опустил Лилиану в теплую ванну, поддерживая полотняной тесьмой ей голову и корпус, чтобы она не ушла в воду.
Теперь он увидел на боку молодой женщины рану, имевшую вид широкого и глубокого кровавого разреза, затянутого тонкой кожицей. Опытному взгляду врача было ясно, что подобная рана при обыкновенных условиях была безусловно смертельна.
Супрамати был человек и с нескрываемым восхищением смотрел на чудное молодое тело и идеальные формы, достойные резца скульптора.
– Решительно, Нарайяна был сибарит во всех отношениях, – думал Супрамати, выливая в ванну треть большого флакона.
Затем он сел с часами в руках, чтобы выждать четверть часа, как это было указано в инструкции Эбрамара.
Вода быстро приняла чудный голубой оттенок, и не прошло двух минут, как в неподвижном лице Лилианы начало проявляться легкое движение: задрожали ресницы, стал дергаться рот и нервная дрожь пробежала по всем членам. Затем рана приняла темно-багровый оттенок, открылась и из нее брызнула обильная струя материи, черной, как чернила.
Через четверть часа вода сделалась черной и стала издавать острый и удушливый запах. Супрамати выпустил ее, снова наполнил ванну и влил в нее вторую треть жидкости. Почти тотчас же из раны потекла алая кровь, и притом в таком изобилии, что при нормальных условиях смерть должна была последовать от истощения. Тем не менее в состоянии больной не произошло никакой неблагоприятной перемены; напротив, стало проявляться слабое и неправильное, но вполне заметное дыхание.
По истечении предписанного времени Супрамати выпустил окровавленную воду и влил в свежую остальное содержимое флакона. На этот раз вода не изменила вида и осталась бледно-голубой и прозрачной. Рана же приняла вид обыкновенной затягивающейся раны.
Тогда Супрамати перенес больную на диван, положив на рану кусок полотна с мазью и наложил повязку с искусством опытного врача. Тщательно вытерев тело и волосы, он завернул Лилиану в одеяло так, что она походила на мумию и не была в состоянии пошевельнуться, а потом перенес ее на кровать и влил ей в рот ложку красной жидкости одного из пузырьков.
Дрожь пробежала по телу молодой женщины. Затем из ее груди вырвался нечеловеческий крик, – и она открыла глаза. В этих больших, темных, бархатных глазах отразилось такое страдание, блеснула такая безмолвная жалоба, каких Супрамати никогда еще не видал в человеческом взгляде.
Он вздрогнул от жалости и сострадания. Да, Эбрамар прав: несчастная Лилиана должна была переносить адские муки. Впрочем, он не успел сказать и слова, как веки больной опустились, а она снова впала в неподвижность, но на этот раз неподвижность была вызвана глубоким и благодатным сном.
Супрамати опустил шторы на окнах и сообразно с инструкцией Эбрамара вылил в небольшой тазик содержимое зеленого флакона, благодаря чему комната наполнилась благоухающим ароматом. Но каково было его удивление, когда он увидел, что из таза спиралью поднимается густой зеленоватый пар, который тянулся к кровати и как бы всасывался телом спящей.
В течение нескольких минут смотрел он на это странное зрелище, а потом вернулся в свою комнату. Так как совершенная им работа заняла более трех часов и возбудила в нем аппетит, то он вымылся, поужинал и лег спать, очень довольный.