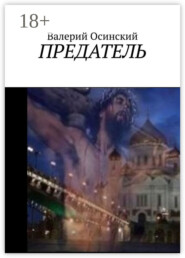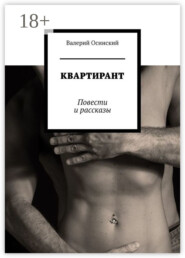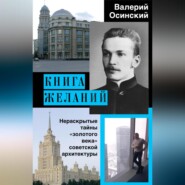По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский излом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борис включил настольную лампу с зеленым абажуром – вещи из сумрака сразу встали на свои места, – поправил стопку книг, поискал, куда бы присесть и… не присел. Теперь в его повадках Ксения увидела не деликатность, как ей представлялось раньше, а услужливость мелкого червячка перед начальством.
– Мама дома?
– Да. Спит.
– А тетя Маша?
– В больнице. Там знакомый врач и Марина… – он забыл отчество дочери Красновских.
– Который час?
– Два ночи.
Помолчали.
– Надо что—то решать со свадьбой, – слабым голосом сказала Ксения.
– Мы говорили с Александром Николаевичем, – Борис произносил слова неторопливо, отчетливо проговаривал окончания имени и отчества. – Мы думаем, на время… – он кашлянул в кулачек, – … пока здесь все закончиться, тебе можно переехать ко мне. Правда, там еще не все готово. – И быстро добавил: – Или к моей маме.
Еще вчера Ксения мечтала перебраться к Боре из их с родителями тесной двухкомнатной квартирки в панельной многоэтажке. Боря «построил», как он говорил, сборный дом в деревне на наследственном участке в пяти километрах от города. Такие дома предлагали на бесчисленных строительных рынках. Средненький дом, обитый сайдингом древесного цвета, с террасой и каминами на обоих этажах. И очень гордился своим приобретением. Больше, чем новеньким «Фордом» Санкт – Петербургской сборки. (Водил он недавно и в машине сидел очень прямо, окоченело цепляясь за руль, что забавляло Ксению.) Он любил поговорить о доме с Каретниковыми, уютно устроившись в кресле, за чаем. По каталогам без конца выбирал обои и мебель, паркет и подвесные потолки, унитаз и кафельную плитку, домашний кинотеатр и посуду под цвет гарнитура. Он любил читать объявления в специальных газетах о продаже земельных участков и недвижимости, сравнивал их удаленность от Москвы со своим участком и со стоимостью своего дома. Показывал Ксении цветные снимки выставочных интерьеров и образцов. Считал на калькуляторе, во что обходится стройка. «Не забудь: обязательно посади крыжовник!» – подшучивал отец. Хмельницкий обижался и замолкал. В такие минуты Ксении становилось жалко Борю. Как и Боря, она мечтала об усадьбе, о независимости, что давало собственное жилье, о деревенской тишине, безмятежной, являющей контраст непрестанной какофонии, с шести сторон окружающей квартиру в панельном микрорайоне. И даже сердцевидные, ржавые листья и тени бабьего лета на деревянных ступенях открытого крыльца, короткая подъездная дорожка к беленому гаражу казались особенными в своем доме. А маленький дом – просторным! И Ксения уже соглашалась и понимала, каких трудов и затрат Боре стоила «стройка».
Потом, в разговоре даже с малознакомыми «людьми их круга» – при них Хмельницкий с фальшивой непринужденностью произносил известные на всю Москву имена клиентов своей фирмы, – Боря хвастался домом, и девушка догадалась: дом, как свое жилище его интересует меньше, нежели символ самоутверждения среди тех, кого он считает выше себя по положению. Было, возмутилась мелочностью жениха, но призналась себе, что ей приятнее ездить на комфортном автомобиле, а не в метро; приятно, что украинские рабочие отделочники в доме, уважают ее, и называют «хозяйка».
Боря бывал до смешного скуп: выбирал в магазине макароны низшего сорта. Вне работы одевался бедно (но аккуратно). Жадничал. Все деньги откладывал на усадьбу. «Скупость, эта осложнения после нищенского детства, – оправдывался он. – Мама весь год копила на отпуск или мне на новую форму к школе». А то, вдруг угощал компанию в боулинге, отваливал царские чаевые официантке, покупал дорогие вещи. Приступы расточительности мстили унизительной нищете, давали иллюзию богатства. Действительно: деньги, как водка делают человека чудаком. И хоть детство Ксении было благополучнее детства Хмельницкого (с его слов), но и она по привычке съедала котлету, после гарнира. Когда Ксения поняла, что беременна, все то, что она считала глупым скопидомством Бориса, вдруг приобрело значение. Теперь она думала о будущем ребенке. А ребенок не виноват, что его матери с детства привили презрение к вещам, потому что вещи ей доставались даром. С Борей она чувствовала себя независимой от счета за квартиру, от рассерженного заведующего кафедрой на работе, независимой от быта: быт можно презирать, но от него никуда не деться…
Ксении захотелось трусливо спрятаться от беды. Но и в пустом доме Бориса и в квартире его мамы, умной и терпеливой женщины, – она никогда не вмешивалась в их с Борей дела, – ей не переждать боль, не обмануть себя…
– Надо что—то придумать. Сережа погиб, и … – устало проговорила девушка.
– Хорошо, хорошо. Завтра обсудим. А теперь спи. Выключить свет?
– Не надо…
– Ты бы сняла часики. Наверное, мешают. И стекло поцарапаешь.
Ксения не поняла. Борис приблизился укрыть ее. Пощупал запястье девушки: стрелка его часов пустилась наперегонки с пульсом Ксении, пульс легко победил. Увидел ее голые плечи и грудь и принужденно улыбнулся. Ей стало неприятно, что он так смотрит на нее. Борис присел на постель и попытался обнять девушку. Ксения отвернулась к стене, натянула одеяло до макушки и врылась в подушку. «Спать, спать!» Она зажмурилась. Но сон не приходил. Ей почудилось, будто кто—то другой, обитающий в ней, обзавелся собственным разумом и не просто живет своей жизнью, но насылает на нее тоску. Ксения почувствовала, что соскальзывает в детство…
Ей шесть лет. Зеленое поле, бесцветное от зноя небо. Дворовые мальчишки впервые взяли ее в поход на гороховое поле – заветная мечта всей мелюзги микрорайона. Теперь там новострои. Ксюша была единственной девчонкой в компании.
На жестком багажнике страшно трясло. Ее вез чернявый, смуглый мальчишка, майка на его спине вымокла, плечи ходили вверх—вниз: он всем телом давил на педали, надрывался, чтобы не отстать от своих. Ксюша отбила копчик о раму, и крепилась, чтобы не плакать от боли. А ухабистый проселок не кончался.
Наконец, побросали велосипеды в пыль у обочины и ринулись в горох. Торопливо пихали стручки за пазухи, в полы маек, воровато оглядывались, не идет ли сторож, детская страшилка. Потом, во дворе будут хвастать, кто больше набрал.
Когда «шухер», невидимый из зарослей, забумкал кирзой, компания на велосипедах улепетывала в гору. Ксюша выбежала на дорогу. Ее забыли! К ней вразвалку шел огромный, обросший дядька, и опирался о толстый дрын. Его огромные кирзовые сапоги клубили рыжую пыль и грохотали, неотвратимо, ужасно.
Вжав голову в плечи, Ксюша побежала. Обернулась. Дядька был уже рядом: протянет руку, и в мешок. Она страшно закричала.
Велосипед выскочил из—за холма и, дребезжа на ухабах, понесся вниз. Девочка разглядела заостренное лопаткой лицо смуглого гонщика, ее возницу, его глаза—жала, хватавшие дорогу, чтобы не споткнуться раньше времени, и белые от страха губы.
– В сторону, малая! Бего—о—ом! У—у—у, бли—и—ин!
Затем, за спиной раздался металлический звон, грохот рухнувшего велосипеда, и брань мужика. Ксюша припустила, не оглядываясь.
Во дворе компания ждала их. Пацаны отправились искать друга. Вернулись под вечер. Смуглый катил велосипед со спущенными шинами и передним колесом восьмеркой. Грязная майка разорвана, на коленях и локтях запеклись ссадины. Приятели кружили рядом. Поравнявшись с Ксюшей, малый угрюмо проговорил:
– Из—за тебя ниппеля скрутили. Че орала? Че бы он тебе сделал?
И пошел к своему подъезду.
Наверное, они встречались с Сережкой раньше. Ксения не помнила. Каждое лето она жила в деревне у деда Андрея, отца матери. Дед разрешал внучке поздно ложиться спать, гулять вдоволь, и крепко пил. Проведя детство «на воле», Ксюша не верила, что, мол, тот, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до смерти будет потягивать на волю. Она не любила деревню: ей там было скучно. С наступлением холодов ее перевозили в Москву, к заводу «Серп и молот» в коммуналку бабушки Саши, матери отца. В двух комнатах из трех жила бабушка. В третьей – нелюдимый алкоголик с синими наколками на костлявом теле. Напившись, он садился на кухне на табурет, грозил выселить бабушку, называл ее «старой курвой», и обещал познакомить Ксюшу со своим сыном. Девочка думала, что сын такой же костлявый и в наколках, и боялась обоих. Потом отец Ксюши приводил участкового, и сосед неделями пил у себя в комнате. В квартире становилось тихо.
Через много лет, навещая бабушку, уже совсем старенькую, Ксения столкнулась в дверях с Борей: алкоголик умер, и легендарный сын приехал принимать наследство…
А тем летом перед школой родители привезли Ксюшу домой.
…Девушка с усилием встала, накинула халат и отодвинула нижний ящик компьютерного стола. Здесь из ненужного хлама – исписанные и разбухшие институтские конспекты, резинки для волос, рассыпание цветные карандаши, высохшие фломастеры и лак с блестками для ногтей – она извлекла полуразвалившуюся картонную коробку, и вернулась с ней на постель. Со дна эпистолярных наслоений – поздние письма на самом верху – Ксения извлекла открытку. С открытки «В первый раз в первый класс!» веселый заяц со школьным ранцем протягивал букет, а на обороте красным фломастером крупным ученическим почерком и с ошибками на окончаниях было: «Ксени от Сережы».
После торжественной линейки ее первого школьного сентября мама привела новых одноклассников Ксюши, кто жил по соседству, к ним домой на чаепитие. Сережка учился в третьем классе. Он «потерялся» у самого подъезда. Мама звала его с балкона, бегала к Красновским в соседний подъезд: те жили в однокомнатной квартире. Но Сережка пропал. Много лет после он признался, что стоял под балконом и слушал, как его ищут. Потом тихонько прокрался в сквер и сидел там до вечера. «Боялся, что пацаны во дворе увидят меня с мелюзгой!»
Их детство, в общем схожее с детством всех детей, было замечательно лишь личными переживаниями. Сережка замысловато написал в одном из поздних писем: «Я, наверное, понимаю, почему Мандельштам не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых—внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. В сущности, все выдающиеся автобиографии сводятся к рассказу об осмыслении детьми себя в старом мире».
И тут же в ряд детских воспоминаний Ксении встали дни рождения – полдюжины детей, всегда одних и тех же, тесные туфли, ноющие виски от туго стянутых в хвост волос, завязанных пышным бантом, безотрадная скука, которая приходила после того, когда было переиграно во все игры. И на этом параде прошлого ни разу не мелькнул Сережка!
Ксения перебрала несколько писем без конвертов, одолевая сопротивление их страниц. Вспомнила: старые письма раздражаются, когда их раскрывают. Копаться и перечитывать их, у нее не было сил. Облик Сергея, как часть ее детства и юности, расплывался. Ксения не могла выделить Сережу из толпы сносно примерных школьников. От этого ей стало пронзительно жалко его, как бывает жалко самых маленьких в классе детей. В детстве из множества чужих мы выбираем единственного друга. И это дружба навсегда, как бы жизнь не разводила и не расставляла на места. «Друг детства» самое емкое пояснение близости. Это – воплощенная память о лучшем в жизни. Их с Сережкой родители росли вместе в соседних подмосковных деревнях, и веселые байки Каретниковых и Красновских о молодости были общими для детей. Баба Саша и дед Коля с младшей сестрой отца тетей Лидой сначала жили вместе. Тетя Лида вышла замуж и уехала в Ленинград. Дед Коля умер…
Все это: фамилии знакомых родителей, прозвища друзей, названия окрестных деревень и поселков, легендарные бабки Кати и деды Васи, покоившиеся на сельском кладбище, и короткий прочерк между датами их рождения и смерти – прелюдия их с Сережкой жизни. Поэтому, думая о Сережке, Ксения чувствовала себя так, как если бы живая, она думала о себе мертвой.
Тут она вспомнила первое осознанное ощущение родства с ним.
На их улице в старом доме был свой живодер. В жилетке болотного цвета, в белой рубашечке и со скрипкой в футляре. Инструмент он ненавидел, но, чтобы не влетело от родителей, трепетно укладывал футляр на траву и в безопасное место, если играл в футбол с пацанами или бегал на заброшенной стройке. Он казался высоким, потому что с ним всегда ходили младшие. Приваживал малышей вкладышами от редких тогда жвачек. Ксюша нажаловалась родителям, что «скрипач» за жвачку заставил Светку—дурочку из школы для умственно отсталых снять перед ребятами трусы. Ребята прибегали смотреть со всей улицы и ржали. Родители не поверили Ксюше. В доме взрослые посмеивались и завидовали продвинутой семье «скрипача»: его отец был первым, как тогда говорили, «кооператором». Держал бакалейные лотки.
Всех хитросплетений дворовой политики Ксения уже не помнила. Но вот за гаражами, подвешенная на суку извивается рыжая кошка, а палач, упирается о футляр скрипки, усмехается, и шутит с немногочисленными свидетелями казни. Малышня смотрела на расправу со страхом и любопытством. Кто—то из дворовых позвал Ксюху с Сережкой. Ксюша остолбенела. Красновский молча срезал перочинным ножом веревку – кошка удрала с петлей на шее – подошел к «скрипачу», – Сережка был на голову ниже него – и свинчаткой в кулаке выбил ему два передних коренных зуба.
«Кооператор» приходил к Красновским с двумя амбалами, так и не понявшими, зачем их привели, орал на Красновских, и называл Сережку «выродком». Отец Ксюши заступился за детей – на этот раз обе семьи поверили «показаниям» девочки – и взрослые переругались. С тех пор во дворе Сережку считали «хулиганом». Ксюше сначала было обидно за него, потом стало все равно, что думают о нем чужие. Она догадалась: есть правда для всех, и настоящая правда о человеке, которому веришь.
Ксения наткнулась взглядом на абзац: «Мы родились в стране лицемерной власти, где отсутствие свободы, человеческих прав, нищета народа, скудость духовных запросов (из—за векового отрицания самой души) и доброта простых людей произвели чудной гибрид…»
Девушка перелистала письмо. Это уже из военного училища. Ей, кажется, было шестнадцать. Ее раздражали высокопарные заимствования Сергея. Они жили в стороне от потрясений и ужасов своего времени, и узнали о них в институте из брошюр по новейшей истории. Где—то в прошлом, до отъезда Сергея был портвейн из горлышка в чужом подъезде, первая сигарета за компанию и «крупный» разговор с родителями. А потом учеба, репетиторы, английский язык, компьютерные курсы. Из той жизни она помнила вечернюю телепрограмму «Взгляд», и лет в одиннадцать балет «Лебединое озеро». На «балет» позже ее внимание обратили новые былинщики. А в тот день они с бабушкой Сашей телевизор не смотрели, и шептались перед сном, когда в дверь позвонили. Кряхтя и охая, бабушка ушла открывать. Сухенькая и седая, в ночной рубашке и в огромных войлочных шлепанцах, чтобы зимой помещались теплые домашние полусапожки: бабушка постоянно мерзла. Вошел Сережка. Ксения радостно чмокнула его в щеку.
– Александра Даниловна, скажите моим, что я у вас, ладно? Наврите, что электрички отменили, или, что я сплю. А то мать убьет. Во, гляди! Танкист подарил! Только починить надо! – И гордо предъявил Ксении старые армейские наушники. Объяснил: со старшими пацанами поехал к Белому дому; на Котельнической набережной стояли два танка. – На площади митинговали. Пацаны поехали домой, а я к вам.
– На что тебе наушники? – спросила Ксюша.
– В военное училище пойду!
– Зачем тебе?
– Нормальная профессия.