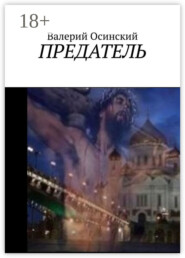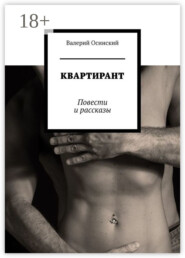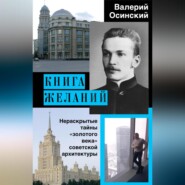По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский излом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь все это не имело значения.
…Ксения прислушалась к чтению отца. Подумала о Борисе: «Не звонит, значит подъезжает».
В двери постучали.
– Наконец—то! – пробормотал Александр Николаевич и вскочил открывать.
Ксения пододвинула ногой туфли и стала втискиваться в них.
– Ксюша, ну куда же ты их напялишь со своим ростом! – снова мягко возмутилась мать. – В твоем положении! Отличные же лодочки…
– Мое положение еще не заметно, мам! К тому же Боря так хочет.
– Опять Боря! – проворчала мать. – Ты стала дурой при нем! С каких пор ты без него ни шагу?
– Мам, не люби Борю, пожалуйста, про себя. А то сделаешь меня матерью одиночкой.
Вера Андреевна недовольно вздохнула. Ксения подумала: «Соседи. Иначе бы в домофон позвонил. Или в звонок у двери». Она прислушалась к себе, ощущая простую и непостижимую тайну жизни. И вновь ей стало жутко и радостно. Это было важнее препирательств с мамой. Важнее Бори. Предчувствие счастья. А все остальное было лично ее, Ксюшиной тайной, о которой никто не узнает.
Пробубнил мужской голос. Что—то стукнуло о пол. От двери просквозило по ногам.
На балконе тихонько дзинькали бельевые струны о металлические перила.
– Саня, кто там? – Вера Андреевна поводила головой, вглядываясь в прихожую.
В дверях встал муж. Бледный, он, не видя, осмотрел зонтик—трость.
– Тебе плохо? – встревожилась жена.
– Нет. Зонт вот грохнулся. – Каретников положил его рядом со списком и мешковато плюхнулся на стул. Вера Андреевна выбралась из кресла и выглянула в прихожую.
– А где Боря?
– Не знаю…
– Как не знаешь? Что случилось? Ты меня пугаешь, Саша!
Тот растерянно посмотрел на домашних.
– Жора приходил… Георгий Иваныч. Говорит, Серегу убили.
На экране телевизора резвились синие и желтые «мульты» с идиотскими рожами, и, словно потешались над глупыми, притихшими людишками.
– Что значит? – Вера Андреевна в недоумении уставилась на мужа.
Он пожал плечами. Тут до нее дошло. Она охнула и села напротив.
– А Маша—то, Маша! – ужаснулась женщина, опрокинула стул и выбежала вон.
Ксения ждала, что ей то отец сейчас все объяснит…
Он, наконец, понял! Нахмурился, щепоткой промокнул нос и ушел. Предчувствие счастья в девушке скукожилось и умерло.
Ксения покачнулась на каблуках. «С непривычки. – И тут же. – Убили?» Но, ведь бородатые дикари, зверство и другая жизнь – по телевизору. При чем здесь они, Красновские, Сережа…
Вот он влезает с дорожной сумкой в такси, в последней, сгорбленной позе отбытия. Ксения мгновенно вспомнила, как он ходит, смеется, чихает. Но не смогла вспомнить его лицо…
В распахнутую дверь Красновских заглядывали соседи с лестничной клетки напротив. Круглолицая женщина сокрушенно закивала Ксении из стороны в сторону, и с любопытством вытянула шею из—за спины мужа. Девушка протиснулась между ними.
Зеркало у вешалки задрапировали. Окна зашторили. Ярко горело электричество. У выдвинутого из угла стола бочком сидели двое в мокрых плащах. Длинный мужчина с хрящеватым лицом держал шляпу. Он кивнул Ксении. Это был зять Красновских, Вадим. Шляпа? Вадим никогда не носил шляпы! Второй, друг Вадима – Ксения не помнила его имени – горстью машинально смахнул с полировки лужицу, натекшую с кожаной кепки, и тряхнул кепкой: брызги мокрым серпом хлестнули о паркет.
В спальне застонали. Девушка вздрогнула, и взглядом поискала родителей. Вадим шмыгнул носом, встал и снова сел, раскинув локти между спинкой стула и столом. Его глаза покраснели.
Вошли Георгий Иванович, невысокий, лысенький толстячок с рельефной червеобразной веной на виске – он был в сером костюме, с чемоданчиком и со шляпой в руке – и Каретников.
– Надо ехать, – потерянным голосом сказал дядя Жора. Его всегда круглое без возраста личико веселого балагура сморщилось, будто он вот—вот заплачет. Но он не плакал.
Володя суетливо поискал сумку. Друг подсказал: сумка в ногах.
«Уже собрались, – подумала Ксения, – а нам сказали только сейчас».
В спальне снова застонали. Красновский, осторожно уравновесив на чемодане шляпу, было, шагнул туда. Открыл дверь. У широкой постели хлопотала Вера Андреевна.
– Папа, опоздаете на самолет! – послышался голос Марины, старшей дочери Красновских.
Ксения уткнулась в кулаки. Она испугалась внутренней боли, – боль разрасталась в сердце, в груди, кошачьими коготками рвала трахею и гортань, выдавливала слезы, боли было все больше и больше – и от боли не было спасения! Отец озабоченно шарил по паркету взглядом и шмыгал носом: он тоже боролся с болью.
Дядя Жора помял шляпу и примерился к чемоданчику.
– Надо ехать, – пробормотал он, кивнул всем и вышел в прихожую. Вадим помог ему натянуть дачный дождевик: подбородком тесть крепко прижимал перекрещенные концы черного шарфа и, вскидывая плечи, исхитрялся попасть рукой в пройму, но промахивался. Соседи расступились. Кто—то всхлипнул.
Марина просеменила к телефону. Обычно бледная и худая с темной тенью под верхней губой теперь она, казалось, мертвенно—серой и костлявой в широком траурном платье. Ее волосы в жиденькой косичке растрепались, и женщина походила на больную птицу секретарь.
– Что же вы не едите? Ей совсем плохо! Да. Сердечный приступ! – негромко и с раздражением сказала Марина. Бесцветным голосом она повторила адрес, кивнула Ксении и ушла в спальню.
Потом Ксения что—то делала, с кем—то разговаривала. Сердитый фельдшер не сразу понял куда идти и кого лечить. Девушка едва узнала страшное распухшее лицо тети Маши. Борис? Зачем он здесь? Она пошатнулась на шпильках. «С непривычки!» И сняла их. На душе стало невыносимо. У Ксении началась истерика. Жених и отец увели девушку и уложили в постель.
…Ксения очнулась и сосредоточилась: произошло что—то ужасное, но – что, никак не могла вспомнить. Она осторожно выглянула из—под век, словно проверяла, далеко ли опасность! Было темно и тихо. Лишь в щель балконной фрамуги шептал сквозняк. Тут она вспомнила. В груди заледенело: ни повернуться, ни встать, ни подумать. Как это бывает со многими, кого не заботит вера в обычной жизни, она наспех попыталась соорудить мягкого, теплого, смутного от слез Бога и хотела прошептать простую молитву. Но молитв не знала.
Который же теперь час? Ночь? Утро? Непогода и задернутые шторы смешали время. Ксения сделала усилие, и села в постели. Стало зябко. Она нащупала ногами тапки. Одеяло наполовину сползло на пол. Халат поник на спинке стула. Подумала: «Борис…». Отец всегда вешал халат на место, на ручку бельевого шкафчика у дивана. Значит, ее переодели. Ксения похолодела: «свадьба!» Представила себя в нарядном платье. А в коридоре люди! В квартире Сережа. И надо будет пройти мимо дядя Жоры, тети Маши. Это не Москва, где торопливо везут из морга сжигать или закапывать. В пригороде дают проститься с улицей, домом, соседями…
Вдруг она с ужасом поняла: мимо Сережы надо будет пройти ей и ребенку! И с еще большим ужасом осознала, что теперь не осмелиться рассказать правду ни Борису, никому! Не осмелиться рассказать о единственной причине, которая оправдает их с Борей отказ от фарса. «Это нельзя! Невозможно!» Она вдруг увидела цинизм своих фантазий, фантазий злого ребенка—переростка о том, что можно прожить в полсовести, и тихонько заплакала, утирая слезы по—детски кулаком.
От стены в коридоре на матовое стекло двери отражался свет из кухни. Там бубукали голоса: хрипловатый от крепких сигарет голос отца, и ровный – Бориса. Девушка попробовала и не смогла встать. Голова кружилась, колени дрожали. Наверное, действовало снотворное.
У двери воровато хрустнул паркет, и на стекле замутнела высокая тень Бориса. Он заглянул в щель. Поводил головой вправо, влево, встретился глазом с глазами девушки и неслышно скользнул в лазейку.
– Проснулась? – Борис ободряюще улыбнулся, как улыбается старший товарищ младшему: мол, видишь, я же не унываю. Плечистый, с осторожными движениями, будто старался не привлекать внимания, неизменно в белой рубашке и неброском галстуке. Ксения вдруг заметила: у него плакатное лицо: косой пробор, ямочки и в двадцать девять лет задорный румянец на щеках. Скользнешь взглядом по этому приятному, пустому месту и тут же забудешь.