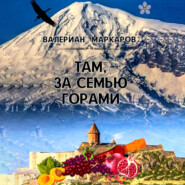По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Личный дневник Оливии Уилсон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Переполненная радостью, она попрощалась с Джозефом, но на секунду задержала взгляд на дипломах в рамках на стене, поправила один из них, висящий немного неровно, а затем направилась к выходу. Только тогда она припомнила, что в его негромком и почтительном голосе проскользнули еле заметные нотки сожаления. «Возможно, это просто усталость», – предположила она.
– Зонт! – услышал он бодрый командный голос и посмотрел в сторону стены. – Безобразие, Уилсон! Почему вы не предложили зонт этой очаровательной даме, фройляйн Мур? Где ваш большой чёрный зонт? Ваша рассеянность, в самом деле, абсолютно непростительна! Сейчас хлынет проливной дождь.
– Прошу вас, доктор Фрейд, оставьте ваши предположения…
– Барометр опускается: я ощущаю покалывание в ногах, а это верный признак приближения непогоды…
Глава 2. Исповедь одиноких сердец
Утром следующего дня, явившись на работу, доктор Джозеф Уилсон был приятно удивлён. Все помещения его офиса: приёмная, кабинет, а также небольшая кухонька и туалетная комната были в таком состоянии, словно в них отменная хозяйка только что закончила основательную уборку. Повсюду витал аромат благородной деревянной мебели и офисной техники, а над всем этим царили идеальная ухоженность и образцовый порядок. И даже три давно запущенных бонсая, стоящих на полке у окна: снежная роза с чудесными хрупкими корнями, выступающими из-под земли, искривленная сосна, которой, как минимум, лет восемьдесят, и рощица из нескольких клёнов были пострижены умелой рукой, освобождены от ненужных отростков и заботливо орошены водой – вот, всё ещё блестят хрустальные капли на их листьях. Теперь этот сказочный лес вновь потрясает изысканностью, а кусочек мха на стволике сосны неизбежно вызывает у Уилсона то, что древние называли катарсисом.
Похоже, что мисс Мур, то есть Эмма, его новая ассистентка, одна из тех женщин, которые днюют и ночуют на работе, – с довольным видом рассуждал он. Всё, чего она хочет, – это показать, с каким усердием она может работать и как готова ради этого пройти лишнюю милю. Ну что ж, похвально! Явилась ни свет ни заря в свой первый рабочий день, и взялась кружить по комнатам со шваброй, тряпкой и пылесосом, оставляя за собой лишь шлейф восхитительных ароматов кристальной чистоты. Он живо нарисовал в своём воображении, как она, завидев, что заблестело очередное стекло в оконной раме, проворно соскакивает с подоконника и, отступив на пару шагов назад, любуется результатами своего труда.
Эмма с безукоризненно прямой спиной восседала за полукруглым столом и, слегка склонив голову, с энтузиазмом стучала по клавишам. На поверхности столешницы не было ничего лишнего, всё аскетично и строго: телефон, персональный компьютер, принтер со сканером, канцелярские принадлежности в простом держателе, стопка бумаг под руками, раскрытый на сегодняшней дате ежедневник, журнал для записи пациентов и свежая пресса. Сбоку, на самом краю стола, лежал металлический поднос с хрустальным графином воды и отполированными до блеска стаканами. Джозеф никогда не видел их такими безукоризненно-прозрачными, играющими всеми цветами радуги в утренних лучах солнца!
– А, Эмма! Хорошо, что вы уже здесь. Рад вас видеть, – сегодня его голос звучал бодрее, чем накануне.
– Доброе утро, доктор Уилсон, – улыбнувшись, ответила женщина, беря его дорогое кашемировое пальто и вешая на плечики.
Оказывается, вчера он не сумел разглядеть, что у неё такая тонкая талия… такая прямая спина… такие длинные ноги…
– Как насчет чашечки кофе, доктор Уилсон?
Джозеф едва заметно улыбнулся:
– С удовольствием выпил бы… Какое утро без чашечки кофе можно назвать добрым?
– С молоком или без, доктор? – произнесла она, повторив свой вчерашний вопрос, и вновь улыбнулась – лучезарно и немного загадочно.
– Без молока, если можно, Эмма. Только крепкий кофе.
– Сию секунду…
Несколько минут спустя знакомый ароматный запах дотянулся до его ноздрей. Вскоре дверь в кабинет приоткрылась, вошла Эмма, слегка покачивая бедрами и неся в руках поднос с чашечкой кофе и – о боже! – вазочкой, доверху наполненной маленькими пышными круассанами. Эти рогалики из слоёного теста всегда напоминали ему о Париже, в котором он регулярно бывал, отправляясь в качестве одного из спикеров на международный симпозиум по психиатрии. О, Париж, город-праздник, который никогда не кончается… Елисейские поля, кабаре Мулен Руж, Монмартр, Лувр, Эйфелева башня, Нотр-Дам де Пари… А кстати говоря, откуда Эмме известно, что он души не чает в этих чудесных круассанах?
– О, Эмма, вы моя спасительница! – Джозеф одарил её благодарной улыбкой и откинулся на спинку кресла.
Бесшумно отхлебнув глоток любимого напитка, он окончательно убедился в том, что жизнь не так уж и плоха, а случившееся вчера теперь выглядело сущим пустяком. И внезапно поймал себя на том, что смотрит не на лицо Эммы, а куда-то пониже. «Интересно, как долго я смотрю туда, – заёрзав, подумал он. – Заметила ли она?» Он взял в руки воображаемый пылесос и уничтожил им все крамольные мысли, сосредоточившись на глазах мисс Мур. И вдруг увидел, как она улыбнулась, увидев его расстроенное лицо. «Надо же, ничто не укрывается от её взгляда! Каким бы великолепным диагностом могла стать эта женщина! Интересно, задумывалась ли она когда-нибудь о медицинской карьере? Могла бы она стать моей ученицей?» Эта фантазия захватила его, но голос Эммы вернул его к реальности.
– Ваше расписание на сегодня, доктор Уилсон, – она вытянула из подмышки регистрационный журнал записи пациентов и протянула ему для ознакомления.
– О, благодарю вас, Эмма! – он отставил чашку и протянул руку к журналу, раскрывая его перед собой. – Вы можете идти.
Итак, сегодня у него пять, нет, шесть пациентов, решившихся обратиться к психотерапии, чтобы облегчить душевное бремя.
Первый – Мистер Тернер – придёт через полчаса. Типичная канцерофобия, или боязнь умереть от рака: «Доктор, что мне делать? У меня, кажется, плохие анализы. Что вы сказали? Нет, диагноз ещё не поставлен. Но я уверен, что у меня что-то очень страшное и неизлечимое, что рак уже запускает скользкие щупальца в каждую клеточку моего тела. Вы ведь давно всё знаете, да? И пытаетесь утаить от меня правду. Я это вижу по вашим глазам».
Второй пациент – миссис Смит – недомогает от регулярных приступов депрессии, безразличия ко всему и ощущения, что ничто не имеет значения: «Доктор, я так счастлива, что мы возобновили сеансы. Кроме вас мне не с кем поговорить. Дочь переехала в Оклахому и напрочь забыла мать. Сын меня тоже не вспоминает, хотя и живёт в Бруклине. Появляется только на Рождество, как будто для него не существует других дней. Вот почему, доктор, когда я прихожу сюда и говорю с вами, я чувствую себя живым человеком. Вы ведь не оставите меня? Нет?»
Затем его посетит мистер Эванс – вспышки невыносимой головной боли: «Позвольте выразить вам свою благодарность, доктор. Я счастлив, невероятно счастлив! Вы же помните, я рассказывал, что в моей жизни было больше сложного, чем приятного: обилие ненужных споров, избыток раздражения. А теперь я вновь обрёл радость жизни – полную и насыщенную. Всё это благодаря вам! Вы ведь видите, что мне лучше? Ну? Вы замечаете прогресс? У меня уже не тот печальный вид, что был вначале. И потом, теперь я забочусь о себе. Я стал интересоваться собой. Совершаю прогулки по парку, слышу скрип деревьев и понимаю, что так они разговаривают друг с другом. О чём? Ну, этого я не знаю. Возможно, обо мне… Почему вы смотрите так недоверчиво? Полагаете, я сошёл с ума, считая, что деревья научились говорить? А если это проделки дьявола? Знаете, доктор Уилсон, мой отец – священник пресвитерианской миссии – всегда говорил, что если веришь в бога, в таком случае изволь поверить и в дьявола…
Следующей, кто придёт на сеанс, будет мисс Линда Миллер. Темпераментная стареющая кокетка с крашенными под красное дерево волосами, она считала Джозефа лучшим другом, и по этой причине всякий раз в течение часа, пока длился сеанс, пересказывала ему свою биографию, в которой промелькнуло слишком много персонажей мужского пола. Но самым запоминающимся в этой ленте был Анджело Эспозито. Ей достаточно было лишь мельком взглянуть на него в первый раз, безукоризненно элегантного, крепко сложенного красавца с копной роскошных волос и обаянием Марчелло Мастроянни, чтобы понять – он не американец. Его манера держаться отличалась излишней эмоциональностью, а породистое аристократическое лицо напоминало прекрасных богов Древнего Рима. Они познакомились совершенно случайно: просто столкнулись лбами на Пятой авеню – её дряхлый Bentley и его великолепный Jaguar Mark II («всегда мечтала о такой машине!»). За полминуты до аварии она опустила солнцезащитный козырек с зеркалом, чтобы подкрасить губы и припудрить личико. Тем зимним утром на ней было кремовое пальто с зелёными льняными отворотами и шляпка с зелёной вуалью и птицей. Ещё она захватила белую муфточку из песца, но всё равно дрожала от холода, впопыхах выйдя из автомобиля. Анджело заметил это и сказал:
– Buon giorno, милашка! Come sta? – что значит «как делишки?». Пресвятая дева, это был голос настоящего мачо: властный итальянский акцент, от которого её тут же бросило в жар. За таким голосом она готова следовать хоть на край света! – Вот что, – деловито произнёс он, – эту вашу тарахтелку мы воскресим за пару дней. А чтобы возместить моральный ущерб, я куплю вам шубку. Вы ведь не откажетесь от хорошей шубки? Только сначала назовите своё имя – Come ti chiami?
Лицо у него было смуглое, открытое, и в выражении таилось нечто покровительственное, что ей пришлось по душе. Да, похоже, Анджело не составляло никакого труда завладеть безраздельным вниманием кого бы то ни было, куда бы ни ступала его нога. Он приковывал к себе взгляды окружающих отчасти благодаря одежде, которая сидела на нем идеально. Его фигура, стройная и мускулистая, источала силу и чувственность, однако при всех этих достоинствах он выглядел совершенно неприрученным и немного опасным.
А Линда, не будь дурой, заставила его сдержать обещание, выбрав себе из журнала «Vogue» именно такую шубу, о какой мечтала: очень эффектную, из шкурок баргузинского соболя с насыщенно-тёмными ворсинками, изысканность которой ей придавал лёгкий оттенок седины со слегка голубоватым лунным отливом. Люди на такое оглядываются, а ей именно это и нужно. Ей нравилось, когда на неё обращали внимание и удивлялись, как она осмеливается носить такие дорогие и вызывающие наряды.
Между молодыми людьми завязались сумасшедшие отношения, как в романтических голливудских фильмах. Влюблённые открыто появлялись на театральных премьерах, различных биеннале и светских раутах с чёрными галстуками, где, как полагается, официанты разносили узкие бокалы с искрящимся шампанским. Её горящие глаза следовали за Анджело по пятам. При любой возможности она дотрагивалась до него, тёрлась плечом, стискивала руку и явно гордилась тем, что такой красивый и брутальный мужчина принадлежит одной ей.
Но ресторанам и приёмам для сливок общества, где подбиралась симпатичная компания, они предпочитали оставаться наедине в уютной квартирке на Мэдисон Авеню, чтобы провести там незабываемые выходные, посвятив себя без остатка плотским утехам. О Господи! – восклицала Линда. – Как же сильно я была влюблена в него. Глупая юность! В ней столько блаженного неведения.
Тогда она пребывала в уверенности, что ей удалось приручить страстного итальянца, ведь в постели он был нежен как котёнок. Однако же не преминула намекнуть доктору Уилсону, что Анджело не отличался выносливостью, хотя и умел искусно компенсировать сей изъян тем, что слишком много трепал языком! Правда, сейчас из всего неудержимого, бессвязного потока его слов, жестов и эмоций она отчётливо помнит лишь эти: «Madonna Santa!!! Я, кажется, влюбился. Bambina Regina! Mamma mia!»
Да, работа у него тоже была, рассказывала Линда. Но Анджело о ней говорил мало. Итальянцы живут не для того, чтобы работать, уверял он. Говорят, что из них получаются лучшие в мире отцы. Но ей не довелось проверить это на деле.
Большей частью он пылинки с неё сдувал и купал в роскоши, но порой они выносили друг другу мозги: кричали, били посуду, ругались, даже дрались и расставались со скандалами. Однако, как водится, их войны заканчивались миром и они снова возвращались друг к другу. В таких случаях Анджело в знак примирения трогательно просил у неё прощения: в его голосе она слышала искреннее раскаяние. И, став на колени, целовал ей руки, протягивал свои – сильные как рычаги руки с красивыми длинными пальцами. Он дарил ей роскошные корзины цветов вкупе с другими чудесными сюрпризами. Одним из последних подарков, к слову, было кольцо с изумрудом в золотой оправе в форме короны, украшенной бриллиантами. По его словам, за этот «символ вечной любви и верности», купленный в ювелирном магазине на 47-й улице, что рядом с Рокфеллер Центром, он заплатил целое состояние. Но эта бестия всегда любил преувеличивать, вспоминала Линда, закатывая глаза, хотя, справедливости ради, нельзя не отметить, что с ней он всегда был очень терпелив.
Анджело Эспозито исчез из её жизни так же неожиданно, как и появился. Тем злосчастным утром он принял душ, побрился, надел костюм и галстук, как делал всегда. Выпил крепкий кофе, сидя за кухонным столом и слушая её болтовню, пока они завтракали, а перед тем, как выйти за порог, удивил тем, что, обхватив её лицо своими ладонями, наклонился и поцеловал в лоб. Это было так непривычно, как-никак он обыкновенно целовал её в губы или в шейку. Но в тот день его горячие губы зачем-то коснулись её лба, подобно тому, как это делают отцы, когда хотят пожелать дочери спокойной ночи. В тот момент она ощутила его искреннюю заботу о ней, словно он хотел дать знак, что она находится под его защитой и много значит для него. И испытала странное волнение и желание развести сырость.
Тогда же, после завтрака, они и расстались. Он просто сказал, что ему надо срочно уехать из Нью-Йорка на неопределенный срок. Она не возражала – всё равно это бы ни к чему не привело. Но всегда беспокоилась, что в один день случится нечто ужасное, поскольку уже месяц как стала догадываться о каких-то его сомнительных делишках и пристрастии к ловле рыбки в мутной воде. К тому же, однажды он проговорился, что врагов у него больше, чем друзей, потому что многие неудачники ему завидуют. Но он, мол, всегда действует в соответствии со своими принципами и – кровь из носу! – обязательно доводит до конца то дело, за которое взялся.
К огромному несчастью для неё, всё так и случилось: на следующий день в теленовостях сообщили, что Анджело Эспозито был застрелен на правом берегу Гудзона. «Полиция считала, что он стал жертвой криминальной разборки. Хотя кто знает, что там случилось на самом деле? У копов богатая фантазия!» – усмехнулась она прискорбно. – «Вечно выдают желаемое за действительное. Помню, как федералы допрашивали меня. Я рассказала им всё, что знала. «Получается, мисс Миллер, вы жили с человеком, о котором ровным счётом ничего не знали? – циничным тоном спросил один из фэбээровцев. «Я знала то, что мне нужно знать!» – резко ответила я, желая поскорее прекратить этот разговор. – «Я любила его, и это было главным. Всё остальное меня не касалось…».
Да, Анджело был, пожалуй, единственный, к кому Линда испытывала такие сильные чувства – не легкомысленную влюбленность, а что-то другое, более глубокое. Все прошлые, а потом и будущие отношения казались ей пустыми и бессмысленными: ни за одного из «женихов» она так и не вышла замуж, а может, никогда и не собиралась этого делать.
«Все они были моими любовниками, доктор», – поясняла Линда, пожимая плечами, – «но вела я себя крайне благоразумно и далеко не каждого ухажёра оставляла на ночь. К чему лишние пересуды?». «Нет, детей у меня никогда не было, хотя любви в моей жизни было предостаточно. Я просто не беременела. Не знаю, почему…» – говорила она, разводя руками. – «То, что свершается внутри женщины – тайна, и вряд ли кто-то разгадает её».
В эти дни Линда пребывает то в унынии, то в экзальтации. Впрочем, её первое состояние нравится Джозефу больше, ведь, будучи возбуждённой, она всячески пытается обольстить его, заглядывая в глаза и задерживая обожающий взгляд на несколько долгих секунд, чем приводит его в краткое замешательство: «Доктор Уилсон, почему вы так боитесь меня? Неужели это всё из-за идиотского этического кодекса, что висит в рамочке на стене вашей приёмной? Там написано, что психоаналитик не имеет права заводить любые отношения с клиентом вне кабинета – рабочие, дружеские, романтические… Кто сочинил подобную чушь?»
Тем не менее её стремление к физическому контакту оставалось непобедимым. Можно ли ей подвинуть кресло поближе к столу? Почему бы ему, «милому» доктору Уилсону, несколько минут не подержать её за руку? Не будет ли он возражать, если они пересядут на кушетку? Не мог бы он обнять её? Она феноменально настойчива в своих неуёмных желаниях, ощущая теперь, особенно в последние годы, как однообразно и уныло отцвела её жизнь, отчего ей безумно хочется привнести в неё что-нибудь яркое, чтобы годы не казались прожитыми зря. Тем более что не осталось никого, кто смог бы доказать обратное: «Я прошу прощения за своё поведение в прошлый раз, доктор Уилсон. Видно, я перешагнула черту. Да-да, конечно, я согласна сохранить формальные отношения между врачом и пациенткой. И надеюсь, мы с вами останемся друзьями. Правда, у меня множество недостатков: я импульсивна, я вас шокирую, мне чужды условности. Но у меня есть и сильные стороны: я обладаю безошибочным чутьём на людей с благородством духа. И когда мне доводится встретить такого человека, я стараюсь не потерять его.
Что? Как я себя чувствую? Меня больше волнует, как я сегодня выгляжу. О, благодарю вас, доктор. Вы истинный джентльмен. Как я скоротала праздники? Не спрашивайте! Майк бросил меня, сбежал к юной потаскушке, оставив на трюмо коротенькую записку. Знаете, что в ней было? Еле разобрала его детские каракули: «Прости меня, Линда, но я не готов к моногамии. Можешь с этой минуты возненавидеть меня за правду». F*ck! Да большинство самцов не готово к моногамии! Знаю, что говорю, прожила не один десяток лет. Хм, простите, я не имела в виду вас. Но, скажите-ка на милость, доктор, что этот безмозглый кобель нашёл в ней? Хотя… не отвечайте, не надо… я и сама понимаю, это – молодость. Когда Майк с кислой миной принимал от меня подарки и всё время смотрел по сторонам, я ещё надеялась, что он такой, как все. Что будет верен мне, не предаст, не бросит, не искромсает душу в клочья… Мне следовало избавиться от ложных надежд, понять, что рано или поздно наступает время, когда женщина теряет своё обаяние и, как говорится, «форму». Она уже не может похвастать своей красотой, но все ещё помышляет о мужчинах; только теперь ей приходится за это платить, понимаете? Она идёт на бесчисленные мелкие уступки, чтобы спастись от жуткого одиночества. Такая особа несчастна и смешна, требовательна и сентиментальна…
Но что мне, ровеснице шерстистых мамонтов, остаётся делать со своей древностью? Упс… молчу, молчу… как говорится, годы, мужчины и бокалы вина – это то, чему женщине не следует вести счёт. Хотя… чего там скрывать – я никогда и не была пуританкой. А время здорово надрало мне задницу, отомстив за то, что не умела ценить его. И вот где я теперь оказалась: сижу в кабинете психоаналитика, истратив большую часть своих сбережений на жалких альфонсов. И медицину, где перепробовала, наверное, всё, за исключением крови младенцев: стволовые клетки, гиалуроновую кислоту, ботекс. Без толку! Мои морщины не собираются убираться, они на том же месте и, мне кажется, даже углубились! Но я не хочу превращаться в старуху. О, нет, прошу вас, не нужно сомнительных комплиментов: они мало что дают для решения проблем. С годами черствеешь, и многое уже не имеет значения, в том числе – вежливые комплименты.
Вы знаете, доктор, что такое жизнь? В чём её смысл? Зато я знаю – никакого смысла в этой жизни нет! Всё пшик и суета! (Тут Уилсон вспомнил излюбленное изречение старика Фрейда, гласившее: «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или её ценностью – это может означать лишь то, что он болен»). Наше существование – полная чушь, бессмысленная трата времени, да и вообще – трагедия, исход которой предрешён. Сначала нас впускают в этот мир, мы взрослеем и встречаем друг друга, знакомимся и некоторое время идем по жизни вместе. Затем мы расстаёмся и исчезаем столь же неожиданно, необъяснимо, как появились. Вот он – печальный цикл бытия: рождение, мучение, страдание, мышиная возня и, наконец, смерть. Ничего с этим не поделаешь, мой друг. И если я на самом деле отжила своё, то так тому и быть. Конец не пугает меня. Но ведь вы, дорогой Джозеф, не дадите мне уйти на тот свет во грехе? Я буду страшно огорчена, если вы мне откажете… Ах, да, я и забыла – дырявая голова – что вы не священник, чтобы отпускать грехи. Очень жаль! Что? Верю ли я в Господа? Говоря начистоту, не очень. Но я боюсь Его!»
В 15.00 на приём к Джозефу записана мисс Харрис, бедняжка страдает лишним весом. Затем он примет мистера и миссис Тайлер, супружескую пару, стоящую перед разводом. И, наконец, в 17.00 его впервые посетит некий мистер Вуд. Причина обращения неизвестна. Пока.
Его пациенты, женщины и мужчины, с виду не отчаявшиеся и несчастные, а уверенные в себе, прилично одетые люди. Но их разум одержим – он подчинён какой-либо навязчивой мысли или желанию. Большинство из них хочет одного и того же – вернуть кусочек старого доброго прошлого, вернуть, даже если оно протухло и сгнило. Снова и снова жаждет пережить любовную тоску, готово бегать по кругу, наступая на одни и те же грабли, и бросаться с головой в омут. Другие пытаются избежать повседневных проблем: одиночества, презрения к себе, головных болей, импотенции, сексуальных отклонений, избыточного веса или анорексии, перенапряжения, горя, колебаний настроения, раздражительности и депрессии. Им, блуждающим в себе людям, нужен хороший психотерапевт, чтобы выбраться за пределы собственной головы и взглянуть со стороны на клубящиеся там мысли. И смиренно представ пред ним, Уилсоном, как пред святым, они посвящают его в свои скорби, в один голос тянут одну и ту же заунывную песню: «хочу ещё раз увидеть её», «хочу, чтобы он вернулся – я так одинока!», «хочу, чтобы она знала, как я люблю её и как раскаиваюсь в том, что никогда не говорил ей об этом», «хочу иметь детство, которого у меня никогда не было», «хочу снова стать молодой и красивой». «Хочу, чтобы меня любили и уважали. Хочу, чтобы моя жизнь имела смысл. Хочу чего-то добиться, стать знаменитым, чтобы обо мне помнили»…
Так много желаний! Боли! Тоски!
Во время сеанса терапии некоторые из них, особенно новички, конфузятся, рассказывая о своих хворях, другие же, наоборот, впадают в неуместное красноречие и говорят много такого, что вообще не относится к делу, отчего порой его кабинет содрогается от эмоций, а старик Фрейд раздражённо отворачивает голову, сердито затыкая уши пальцами. А ему, Джозефу, приходится с этим жить, проявляя удивительное терпение и выслушивая самые сокровенные желания своих пациентов, хотя большинство этих вожделений никогда не исполнится: невозможно вновь стать молодым, остановить старость, вернуть ушедших; наивны мечты о вечной любви, непреходящей славе, о самом бессмертии. И нельзя избежать боли, потому что боль есть часть прелести быть живым. Но, постойте, постойте! Не всё так драматично. Ведь многие – не без его помощи – смогут научиться жить в этом состоянии, быть счастливыми по-своему. Это случится тогда, когда, наконец, умолкнут голоса в их сознании, твердившие им как мантру: ты лузер, ты всех разочаровал, ты негодяй и урод…
Он много работал. И когда вследствие долгих часов напряжения на него наваливалась смертельная усталость и мысли его начинали путаться, ссориться, наскакивать одна на другую, не позволяя ему сосредоточиться, он неизменно слышал скрипучий голос Зигмунда: