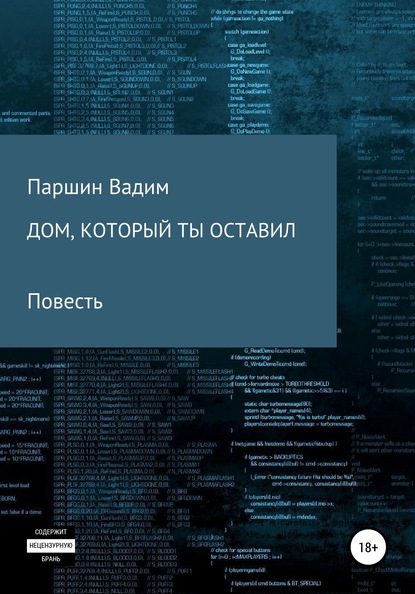По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом, который ты оставил
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В нее-то ты и хотел попасть.
Помнишь? Однажды тебе все же повезло, и ты сумел взобраться на платформу, стремительно проносясь через все вагоны, расталкивая неуклюжих плюшевых медведей, стройных, парою совсем нагих, кукол, едва успев отыскать в одном из своих огромных карманов, таких узких, что рука постоянно так и грозила застрять, навсегда оставшись там, розовую марку ценой в три речных камушка, чтобы сунуть его в руку арлекина, и под издевательский звон бубенчиков…
Помнишь? Постоянно спешащие стрелки вдруг замерли, зацепившись за истертую цифру “двенадцать”, что значило приход полночи, остановить которую можно было только лишь как можно плотнее закрыв глаза. Но этого ты сделать не мог,– тебе было слишком страшно. Да и заветная дверца только что открылась, проливаясь наружу звенящим лазурным светом еще совсем молодой луны.
Раздался гудок и поезд, все также медленно, стал спускаться обратно в комнату. И это показалось тебе столь неважным. Главное было – там, за стройным рядом блуждающих, пойманных в невидимые ящики, мимов, то с нарисованными улыбками, но четко прочерченными линиями снегом застывших на лбах слез, то с гримасами печали и лучащимися смехом глазами, то совершенно безразличных, апатичных ко всему, но вздымающих руки в сторону зеркального свода, туда, где, совершенно искаженные и невероятные, отражались они сами, и выкрикивая беззвучные фразы, тут же машинально пережевывающих их уголками рта. И руки каждого из них тянулись в твою сторону, желая ухватить хотя бы кусочек твоего лица, но натыкаясь на невидимые преграды и болезненно плача от этого.
Туда. Ты бежал туда, где наверняка была дверь, но обнаруживал лишь гладкую стену, поворачивал в сторону, вспотыкался, цепляясь за тюремные камера мимов, поднимался, и снова бежал, пока совсем не потерял, заблудившись, и то место, в которое вошел. Да и в комнате стало слишком темно, до того темно, что от самих мимов остались лишь только резко вычерченные во мраке нервные, ломанные пятна лиц и парящие в воздухе белые руки.
Зацепившись в очередной раз,– тебе даже показалось, будто бы это была чья-то кукольная нога, и, при том, расчетливо подставленная,– ты упал на пол, поняв, что на тебе больше нет твой заветной курточки. На тебе теперь была всего лишь рубашка и штаны, довольно плотные и белые, изрезанные черными линиями ровных квадратов и остроконечный, столь же белый, конус. И от самой твоей, такой мертвенно бледной руки, тянулась тонкая линия желтого света, которая ширилась по мере все большего удаления от тебя.
Ты потянулся, помнишь? И стал падать, все глубже и глубже, на самое дно этого искрящегося света, так, как падал всего один только раз в своей жизни, в твоем самом счастливом, твоем единственном сне. Ведь ты никогда их не видел, даже тогда, одной из дождливых ночей устав бояться и бежать из комнаты в комнату, зарываться под разбросанную всюду одежду, тогда, когда, тебе пришла мысль о строительстве надежного укрытия. Тогда, когда, усталые, мы с тобой лежали вокруг тусклой оранжевой лампочки. Даже тогда ты так и не сомкнул глаз, этих почти абсолютно прозрачных глаз с оттенком посеревшего льда, окаймленных черно-красными веками. Даже тогда ты, сложив дрожащие, побелевшие от испуга и напряжения руки, совсем не моргая, не двигаясь, лежал, смотря в потолок, широко разинув рот для того, чтобы попытаться дышать, и мне казалось, будто бы ты силишься крикнуть. Ведь никто, никогда не слышал твоего крика, хотя ты и кричал довольно часто.
Ты падал. Падал так долго, как долга не была и твоя жизнь. И падал бы так все дальше и дальше, пока, рано или поздно, не начал бы мечтать о том, чтобы разбиться – лишь бы, наконец, упасть, почувствовать под своим лежащим телом хоть что-то твердое.
А вместо этого, твое бесконечное падение продолжалось, сначала в одиночестве, а затем в сопровождении сине-черного ворона, мерно щелкающего клювом и смотрящего прямо перед собой огромными, немигающими, хрустальными бусинками глаз, в которых проносилось что-то тебе одному знакомое, не сделанное еще, еще несуществующее. Все те люди, с которыми ты еще не знаком. Все те слова, тихо, невнятно и кратко произнесенные, которых ты еще даже не слышал.
Ты все падал и падал, чувствуя тяжелое, четко слышимое его дыхание, ловя на себе взгляд его, и тебе казалось, будто бы это – твои собственные, пристальные, жгучие глаза. И не он смотрел в тебя, а ты сам, угадывая, что вот он, этот падающий незнакомец, страшно пугающийся вечности падения, пытается угадать – твою душу, твои сомнения, твой страх в неизбежности чувств стыда и глупого восхищения. Восхищения всем тем, что, становясь безудержным огнем, танцевало вокруг ваших слабеющих тел. А тебя самого, между тем, уже и еще не существовало.
Играли скрипки.
Били барабаны.
Сияли глянцем белоснежные флейты, а тебя самого не было, не существовало уже, не падало камнем, скованного цепями полумрака земли.
Впрочем…
Впрочем, как не было тебя никогда, нигде, ни с кем. И именно поэтому ты ничего не помнил. Ни того, как я осторожно, незаметно трогала твою холодную, дрожащую руку, боясь даже подумать о том, что было бы, заметь ты этот жест, и в тоже самое время, желая оказаться застигнутой врасплох.
А ты уже тогда летал. И ветер уже тогда заставлял твои большие, нежные, печальные глаза плакать, и при этом лучиться невообразимым светом. И, летая, ты лишь иногда смотрел сюда, на оставленную тобою землю. И тебе становилось и больно, и тоскливо, и душно от того, что, здесь, ты совсем один.
А там, внизу, стояла она, тоже совершенно одинокая, даже тогда, когда срывалась с места, уносимая потоками ветра вместе с кленовыми листьями самых разных расцветок, и начинала кружиться в дивном танце, вся укрытая глубоким цветом небес из твоих потаенных мечтаний.
Ты смотрел на нее, пытаясь, будто это дано тебе в первый и последний раз, угадать каждую черту ее лица, запомнить каждое ее изменение, запутаться взглядом в этих ее волосах. И нам с тобой, так никогда друг другу этого не сказавшим, становилось настолько страшно потерять, хотя бы на миг, даже малейшее чувство друг друга, что пламя каждого из нас обжигало и ранило того, кого хотело согреть и утешить.
И именно поэтому, боясь этого пламени, мы начинали молчать, отворачиваясь о взглядов друг друга, не доверяя и конечно же, путая настоящие прикосновения с шелестом холодного ветра по тонкой линии губ. И каждый из этих двух, стоящих там, далеко внизу, с благодарностью принимал каторгу этого холода, испепеляя своей нежностью и лаской: других, другое.
А ты все летал. Летал, и не замечал того, что все, абсолютно все вокруг тебя, будь то мир, люди, вещи, погода, неустанно и стремительно менялось – все, за исключением одного тебя, обреченного так никогда и не повзрослеть, ребенка.
А радость полета, длись она мгновение или даже вечность, рано или поздно обязательно должна закончиться, сменившись каторгой обыденного пребывания на земле. И это падение не обошло даже тебя, истерзанного холодным ветром, безграничной тишиной и одиночеством белоснежных стен и узких коридоров.
Не вспомнишь. Ты конечно же уже не вспомнишь своего болезненного приземления – этого соприкосновения хрупких, ослабевших ног с бетонным полом; бледных рук с белоснежным, разрисованным легкой дымкой инея и бутафорией домов там, снаружи, окном. С одной лишь живой деталью – бархатно-кремовой голубкой на подоконнике. Так ни один фарфоровый ангел не помнит своего появления на земле, ощущая лишь трещины, непредотвратимо ползущие по белоснежным крыльям, обреченным вмиг исчезнуть, рассыпавшись на крохотные осколки былого, разбежавшись по глянцевому полу и, не удержавшись, превратиться во множество безумно звездного, даже самым ясным днем, неба, висящего над приторно-красной, покосившейся, одинокой башней вдали. Так ни один из павших ангелов не уйдет от знания ее, пусть даже так никогда и не увидя этого одинокого исполина с театре сорванных стен. Так гаснет последняя фосфорно-синяя лампа – а свет, глубокое свечение, все же остается: в мыслях, мечтах. В глазах.
Глубоко внутри ваших глаз.
Так однажды, оказавшись совсем не там, где тебе надо было быть, сейчас, в эту самую минуту, ты, о странник, изгнавший сам себя из всех земных домов и приютов, принявших тебя в свои объятья, под свою опеку, вдруг нежно и неизбежно полюбил все то, что находилось вокруг тебя. Все то, что так тихо и размеренно проплывало – вокруг, а совсем не мимо, безвозвратно. Совершеннейши так, как в детстве. Твоем бесконечном детстве.
Ты полюбил каждую черту этого нового для тебя места – без имени и названия. Каждое дыхание чего-то нового рядом с тобой, приятно гладя по щекам и волосам.
Здесь все было прекрасно. Ведь здесь, только здесь, ты мог оставаться самим собой, каким бы странным и непохожим ни на кого ты бы не был, и никто не пытался вернуть тебя себе, удержать в своих любящих, но душащих тебя объятьях, пытаясь стянуть твое одеяло – твоего молчания.
И порою здесь все, абсолютно все, вдруг, невероятно преображаясь, менялось, приобретало невероятные цвета и оттенки, чувства, движения. И это начинало тебя безумно радовать, волновать, восхищать. И этот заводной, в двадцать четыре оборота ключа, механический художник со своей святой верой в то, что он рисует; в то, ЧТО он рисует. Хотя и не кистей, и не красок у него не было, ни даже глаз, способных увидеть что-либо вокруг: справа, слева. Сзади. И эта шарманка, прыгающая из комнаты в комнату – но всегда с одной и той же мелодией. И этот оловянный солдатик, которого ты безумно полюбил и который безумно полюбил тебя – потому что ты тоже был очень похож на него, с глазами, в которых черным блеском светились цифры, даты, события.
За это. За это-то ты его и полюбил – за безвременность самого времени, превращающегося рядом с ним всего-навсего во что-то необыкновенно понятное и подчиненное своему собственному времени. А значит, и боящееся – своего собственного времени.
И эти тонкие руки, продолжением столь же тонкого тела, протягивающие тебе чашку – в честь с тобой чаепития, сопровождающегося непременными, внимательными, далекими глазами,– всегда такими строгими и по-детски печальными.
И теперь, здесь, оказавшись в этом месте, всю свою жизнь страшившийся падений и ссадин, ты, вдруг, совсем перестал бояться падать, как будто бы это было и вовсе не страшно, и даже как-то дико и глупо – “по-взрослому”, как вдохновенно любил ты называть все глупое и дикое, все понятное и, значит, скучное. Потому что все, абсолютно все непонятное, загадочное, нелогичное, необъяснимое – все это было тебе интересно, все больше делалось с годами необходимостью твоей жизни, неотъемлемой частью тебя самого. Той частью тебя, заглянуть в которую, понять которую не сможет никто. Не захочет никто.
Не осмелится.
А между тем, ключ к этой маленькой, безграничной шкатулочке, быть может, скрывался всего в одной тонкой, кружевной мелодии. Ты сам ее выдумал, когда-то совсем давно, так давно, заставив и нас всех верить в нее, в твою с ней нераздельность, твое воплощение в одной из нот, прорезающей всего пол мгновения дрожащей паузы в глухом аккорде этой мелодии.
И ты, совершенно один, хотя и в окружении множества лиц, сидел, словно одинокая пепельная птица, и мог видеть. Видеть совершенно все.
И ночь, непроглядно гулкую и дикую своей тишиной, наполненной бесконечностью тянущегося все куда-то вдаль и везде пугающего тебя своей медленной поступью и пронзительностью ало-желтых глаз, за которыми обязательно,– ты верил в это,– должны были мелькать чьи-то тени. Все, что ты мог запомнить в этих силуэтах, и именно это тебя и пугало, были их белые, абсолютно прозрачные глаза. Именно те, чужие глаза ты и рисовал, рисовал везде, стоило оказаться в твоей руке ручке, карандашу, камню, гвоздю – всегда одно и тоже – глаза. Эти чьи-то глаза, помнишь?
Зачем? Почему?
Лишь однажды удалось уловить в них то, что постоянно, без права отвернуться, избавиться, видел ты. Множества небесно-синих железнодорожных веток. И из тумана каждой из них – вечно пугающие тебя железнодорожные составы.
Ты мог видеть все. И все это, абсолютно все – могло видеть тебя. Кроме нее. Она одна нравилась тебе своим правом беззаботно засыпать, засыпать и при тебе, и без тебя,– хотя этого ты, о капризный ребенок, о вечный ребенок, доводя всех окружающих до абсолютного безумия, не любил и стерпеть не мог. А ей – прощал. Прощал за то, что лишь с ней, спящей, ты мог видеть все, всю ее, а она тебя – нет, не могла и не хотела, позволяла тебе твою роскошь, наглость, причуду. А пока ее не было, тебя видели все. И мальчишка, так похожий на тебя самого, безумно хватающий глазами множества книг, растерзанных на листки и обложки, сгорающие, тлеющие на глазах на белоснежном морозе – потому что ни одной из них, с собой, забрать, спрятав за пазухой, укрыв от чужих глаз, не мог. Хотел, желал, но не мог.
И ребенок, все на том же светлом морозе, одно сплошное очертание серого, но тоже, тот же извечный ребенок с тонкими, ужасно тонкими очертаниями шеи, плеч, рук, невидимыми глазами, словно при последнем прощании, вглядывающийся в световую даль, туда, откуда и не видны, а точнее, еле различимы черные сани, скатывающиеся к покосившемуся сараю с песком и нежному футляру скрипки-тела, ему назначенному, и для него, неведомым плотником в своей пыльной, но мягкой и теплой, плотницкой выточенному.
И он, только он один, знающий, помнящий все многочисленные зимы, холодные и до глухоты тихие, когда, на таких же, а может быть, и этих же самых санях, раскинув руки, но совершенно безумно, скатывающийся в вечность этих извилистых дорожек, он смеялся лазурному небу.
Они все. Ты помнишь? Все они могли, имели наглость и счастье, будто бы в отместку, тоже видеть тебя. Но только видеть. Не слышать, по почувствовать, не притронуться, не заговорить друг с другом, не ты, не они – не могли, не смели.
Не хотели.
Тебе не надо было ничего – совсем, как им самим, чьи очертания ты помнил, но далеким, потерянным во времени, оставшимся позади ночным прогулкам. Это их ты медленно, старательно обходил, пытаясь ни в коем случае не задеть, не притронуться к этим отражениям, по пути туда, в нагромождение бесчисленной театральной, кукольной утвари.
Чтобы было? Что могло случиться, неловким движением, неаккуратным взглядом или нервным дыханием нарушь ты их покой? Они тут же срывались с места,– в этом ты был уверен,– начинали тяжко, громогласно дышать и натужно тянуть к тебе свои когда кукольные, когда фарфоровые, когда бумажные, когда деревянные, когда пластилиновые, расшитые, раскрашенные или же вовсе обнаженные, веревочные или же шарнирные, тонкие и толстые, гладкие и шероховатые, мягкие и твердые, изящные и грубые, но всегда непропорциональные и составленные из неизбежно однообразного набора деталей, руки, доводя тебя до исступления и даже сумасшествия.
Случись так, что ты отлучил бы их от своего тяжкого сна, они конечно же зашептали тебе свои сказки, сказки ни о чем и о своих бесчисленных, коротких, но монотонно бесконечных своей продолжительностью, жизнях, не шевеля своими нарисованными ртами,– да и то, только лишь те, у кого было счастье обладать ртом,– и в тоже время, наполняя тебя самого – собой, до той жуткой степени, когда и сам ты терял себя, превращаясь в одну из этих теней, спастись от которых можно было только одним способом – найдя себя в отражении. Отражении, которого ты боялся больше всего на свете.
И именно поэтому ты срывался и бежал прочь, вприпрыжку, не обращая внимания на тяжелое, слабое дыхание и практически не бьющееся от страха сердце; бежал наперегонки с их плоскими, фиолетовыми тенями – туда, где, скатившись по четырнадцати ступеням, переходившим из вертикали в горизонталь, одна лишь тонкая, почти полностью прозрачная и испуганная твоя оболочка вдруг оказывалась прижатой к толстым воротам театра, схожего с тем самым, твоим, карточным домиком, вздрагивающего каждый раз, когда сверху, над самой его крышей, проносился очередной пузатый, серый, дряхлый и ленивый червь, оставляя на коричневых рельсах свою липкую жижу, грозя подпрыгнуть и, зависнув на одно лишь мгновение в воздухе, рассыпаться.
Ты помнишь? Тогда ты, отдышавшись, церемонно входил в зрительный зал, по хозяйски поднимался по ступеням – туда, в самую глубину, в самый центр сцены, исчезая в темноте, исчезая на одно лишь мгновение в мерцании желтой пыли, чтобы тут же вновь возникнуть в колбе синего света и всеобщего внимания. Появлялся для того, чтобы, медленно медленно втянув в себя воздух, пропущенный между двумя длинными, тонкими пальцами, начать представление.
Появлялся также внезапно, как и они, все те, молчаливые и видимые, ведомые лишь тебе одному, твоими же тенями присутствующие повсюду, но никем больше не различимые и не узнанные, эти самые внимательные, искусные и преданные зрители твоих трагических пантомим.
Появлялся, как появлялись и они тоже – для того, чтобы позволить друг другу абсолютно все, отринуть настоящее в угоду прихотям воображения.
Появлялись все вы вместе – для того, чтобы увидеть ее.
И со всеми вами она разговаривала, дождавшись того самого, последнего момента вашего засыпающего внимания – лишь бы обнять, и больше никогда не выпускать.