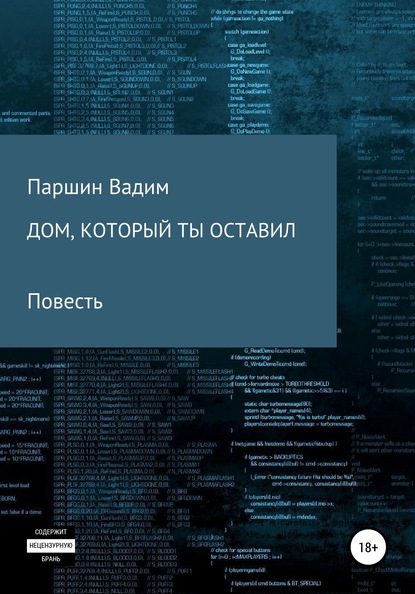По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом, который ты оставил
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Резкая вспышка.
Боль.
Непонимание того, зачем и почему все это происходит.
Рядовой разевает рот в истошном крике, но рот выдает лишь молитвенную и древнюю хвалу тишине и безмолвию. В угасающем всполохе разорвавшегося снаряда целой жизнью угасает его сознание, искромсанное осколками, исцеловавшими лицо в самых ненужных местах. Бессмысленные руки бессмысленно пытаются обхватить уносящийся от него к другим, живым, мир, пальцы царапают недосягаемое небо.
А сердце вздрагивает самым сильным детским вскриком и выбрасывает сгустки алой крови, бегущей в общей лейкоцитовой давке, словно бы при неожиданном происшествии, забывая о правилах безопасности, рассудке и схемах эвакуации – вперед и только вперед. Безмозглыми пучками тока.
К ней.
К вековой лампочке-солнцу.
К ней и мимо нее.
Но туда. Туда, где искрит раненная, надломленная кровотоком гаснущего развода-рядового, проложена алюминиевая нить.
Стремятся, мчатся и падают каплями влаги.
Потому что горизонтальный мир, скрипя и пульсируя, уже совершил суточный оборот вокруг оси сознания и вертикально взметнулся навстречу грязно-охровому полу.
Пеплом, известкой падают прогоревшей практически до конца двадцатиоднолетней сигареты. Падают и капли глаз двадцатилетней. Капли, так ей сейчас необходимые, но и ненавистные, ибо разделить, различить, подхватить, поймать, собрать, сохранить и разделить их с нею – некому. Никто не сидит и даже не лежит с ней рядом. Она, в величии одиночества, совсем одна. И слез ее, никем не виденных, не существует. И комнаты ее, одинокой и страшно темной, не виденной никем, тоже не существует.
И самой ее – в мире других, чужих, а значит, для нее самой, не существующих – не существует. Никого, нигде, ни у кого и не для кого, не существует.
Погасли уже заоконные ненавистники, вдохновляющие дрожащую сигарету жить, быть и что-то, хоть что-то, раз уж некого, любить, страдать от чего-то, к чему-то, хоть как-то, как умеет, стремиться. Страдать еще раз, погибая во-имя кого-то.
Погасли ненавистники, именно сейчас, как раз вовремя, для того, чтобы не тревожить уродскую фигуру, там, на окраинах, грязных и вонючих окраинах, скрюченную на коленях у кровати, засаленной и скомканной кровати, к правому, устенному краю подушки на которой бережно, мягко и любяще прислонен, уложен и обогрет молчанием портрет рядового, этого двадцатичетырехлетнего там и пока еще размыва на впалой щеке изможденной бесцельным днем бесцельной жизни девятнадцатилетней.
Лежит, грустно и молчаливо, отстраненно и сегодня апатично задумчиво, не тянется, не касается положенной тут же, рядом, сигареты. Ему не хочется курить. Ведь сигареты убивают, уничтожают, калечат. А он уже убит, размазан вдохновенным мазком неистового, мракобесного человека-творца, этого грубого и так и не повзрослевшего ребенка, ибо, будь так, что повзрослеет ребенок, разве не станет до омерзения ясно ему, этому теперь уже взрослому существу, то округлое и истинное – Земля, живут на которой только лишь люди, и вместо того, чтобы жить, любить, страдать, ошибаться, радоваться, плакать, смеяться, очаровываться, разочаровываться, надеяться, терять надежду, сомневаться, расти, стареть, сострадать, рождать, болеть, умирать, создавать, любоваться, восхищать, восхищаться, воспитывать, воспитываться, засыпать, просыпаться, убаюкивать, целовать, ласкать, кричать, пить, выпивать, напиваться, работать, получать, отдавать, копить, тратить, дарить, петь, молчать, касаться, соглашаться, отказываться, сомневаться, выбрасывать, подбирать, курить, читать, считать, плевать, плыть, ехать, стоять, сидеть, лежать, ждать, летать, гореть и гаснуть вместе, и только вместе, существуя друг для друга, день изо дня, ночь из ночи, а точнее, мгновение из мгновения, секунду из секунды, минуту из минуты, час из часа, день изо дня, неделю из недели, месяц из месяца, год из года, десятилетие из десятилетия, пятидесятилетие из пятидесятилетия, век из века, тысячелетие из тысячелетия, друг друга – уничтожать.
А потому он, рядовой, и потому она, рамка – уже уничтожена.
А он уже искалечен, сплющен, низвергнут от полнотелости и жизни, до состояния копии, изображения. И изображение это, на правой стороне подушки, не существует, но ждет, когда же уродливая фигура решится, также, как и множество ночей назад, не раздеваясь, не умываясь, не расчесывая волос, лечь, не накрываясь одеялом, поцеловать несуществующего рядового в плоские губы, и уснуть, теперь уже, быть может, наконец, навсегда. Уснуть, закрыть глаза, и перестать существовать. А может, лишить существования все и всех, ибо смерти не зная, имеет полное право считать себя бессмертной, существующей всегда и везде, а исчезающее однажды существо бытия – лишенным ее внимания и понимания, а значит, перестающим существовать, в то время, как сама она – есть и будет дальше.
Ведь есть мы: ты, я, он, она. И ведь нет никого из нас: ни тебя, ни меня, ни его, ни ее. И нет не испещренной не словами и не предложениями не страницы, не которую не каждый не из нас не обязан и не может не читать – всего лишь в микроскопической “не”, быть или не быть которая обречена в каждом из нас.
Ибо нет чувств, никаких и никакого масштаба и глубины, а всего лишь эмоции.
И ибо нет эмоций, не сильных, не слабых, а есть лишь порыв.
И ибо нет порыва, стремительного, или же вялого, а существует лишь слово. И слово, одно лишь бесчувственное и безучастное слово, производит в “есть” все. И лишь оно делает все таким, каким оно отныне, вословленное, будет и пребудет во-веки шаткости и изменчивости.
Так пела влага. Так пела сухая, а теперь вспучившаяся влага на щеках двенадцатилетней девочки, в позе лотоса сидящей на кровати, в абсолютной темноте и тишине своей комнаты, уставившейся в окно, чистое и блестящее, неподвижным взглядом. Молода и свежа она, с упругими ягодицами и влажными губами, с крохотными и розовыми сосками на округлой груди. Нервно дрожат ее хрупкие руки, напряженно сжимая наполовину опустевшую шариковую ручку. И колышется на неизвестно откуда взявшемся ветру исписанный клетка в клетку, посиневший и потемневший от чернил, листок, таящий в себе все то, что было, или же не было с ней, двенадцатилетней, но уже имеющее себя, существующее в запечатленности.
Колышется листок, в котором она, плачущая сейчас, есть и будет. Есть и будет, быть может, вечность, сохраненная и оставшаяся. Или же резким толчком застынет, встынет в жизнь и перестанет быть, превратившись в ничто.
Но плачет она, двенадцатилетняя, совсем из-за другого. Плачет она из-за того,что не верит в то, что она, сейчас, здесь, для себя, и там для всего и всех остальных, существует, есть, дышит, плачет, пишет. Она бросается к окну, прижимается к холодному стеклу, вдавливается, проваливается в него самоим собой, лицом, лбом, волосами, ресницами, носом. Она быстро, истошно дышит на холодную поверхность стекла и нервно, истерично пишет на образовавшейся липкой псевдопромерзлости, на этом осязаемом доказательстве собственного дыхания, короткое: “Я жива”.
И все в этот момент тихо, прозрачно безучастно, несущественно и не нужно. Все, что вне этой короткой надписи.
А она кричит: “Я здесь, я жива, я существую, дышу, двигаюсь, и вы, все вы, сейчас и сейчас-после, там, за окном, и там, перед окном, должны прочесть, узнать и понять, вы, рождающиеся для того, чтобы расти, радуя своих и вам лично близких, любить для того, чтобы не быть одним, ибо одним страшно, бесцельно и не нужно, и не дать быть, им, столь же одним, ибо им, тем одним, иначе не существовать в вас и для вас, а значит, им, тем одним, сомневаться, или, точнее, уверяться в страшном несуществовании – вашем, или же их собственном. Так вот, вы, вы все, должны, обязаны моей мольбой прочесть, понять, узнать о моем существовании и доказать мне – мое собственное существование”.
Так кричат эти два слова на стекле.
А она не прозрачна и телесна. Она есть, здесь, покуда след дыхания, возможно существующей, а возможно, что и нет, двенадцатилетней. Ничего не существует в этом мире помимо того, что уже замечено ею. И если замечено и вами тоже, и ими тоже, значит, и в вашем мире, и в их мирах, существует тоже. Пройдет время, некий конкретный, или же совсем расплывчатый, незафиксированный промежуток времени, которое есть лишь настоящее, поскольку прошлое, прошедшее время – эфемерное, подверженное вопросам и сомнениям состояние памяти, а время будущее, грядущее, не существует, а начав существовать, живет временем настоящим, временем “сейчас”, каменея и медленно, или же стремительно врастая в глыбу памяти, ибо легка, безвесома ноша несуществующего будущего, ощутима и неопределенна ноша настоящего, но лишь пласты памяти-прошлого, единственное во всей человеческой жизни, имеет тяжкое, давящее умение скапливаться, нарастать, утяжеляться, скрючивая наши спины и плечи, ваши спины и плечи, их спины и плечи, горбом наживаясь на нашем, вашем, их праве жить, и сотрутся малейшие следы наши, ваши. Их следы. Перестанут существовать все надписи обессловленного мира. Но придут холода. Но будет кто-то иной дышать на все стекла мира.
И вот тогда вновь вспыхнут, проснутся, оживут они. Весь мир вновь покроется словом.
А она не безучастна. Она несет в себе все значения бытия. Пройдет время, любой промежуток времени встанет ледяным пластом, треснет, вздыбится, разверзнется потоком льда этот промежуток времени, и стоя у этого самого окна, я, ты, он, она, в любом действии и бездействии, в любом состоянии, различим надпись. И каждый вдохнет, в силу уже хотя бы своего любопытства и также, инерционно-безостановочным движением мысли, каждый вдохнет в нее, в эту надпись, в них, в эти слова, то что-то: “Я здесь (она), просто знай об этом (мы)”; “Я здесь (она) была, был (мы)”; “Я здесь (она)(мы)”; “Я здесь (она) что-либо делала, делал (мы)”; “Я здесь (она), в этом стекле, в этих словах, в этом безвременье, а вы там, во времени (мы)”.
А она не бесцельна. Ибо не бесцельно ни одно слово. И каждый, в слове, не бесцелен. И значит:
“Я здесь”, и значит, я виноват в смерти рядового.
“Я здесь”, и значит, я виноват в блужданиях от тепла к теплу, от попытки тепла к попытке тепла девятнадцатилетней.
“Я здесь”, и значит, я виноват в иссохлости двадцатиоднолетней.
“Я здесь”, и значит, я виноват в уродливости уродливой фигуры.
“Я здесь”, и значит, я виноват в молчании тысячелетней лампочки.
“Я здесь”, и значит, я виноват в во всем, где я здесь, где я есть, а тем более – во всем и везде, в чем и где меня нет.
А она существенна и нужна. Нужна той, двенадцатилетней, для того, чтобы спасти, на одну хотя бы ночь, но укрыть ту, двадцатиоднолетнюю, под собой, под своим крылом, под своим существенным словом.
Точно также, как, проснувшись утром, ты умываешься, одеваешься, завтракаешь, зашнуровываешь ботинки, выходишь в коридор, запираешь за собой дверь, спускаешься на улицу, говоришь встречному: “Доброе утро”, для того, чтобы этот встречный, проснувшись утром, умывшись, одевшись, позавтракав, зашнуровав ботинки, выйдя в коридор, заперев за собой дверь, спустившись на улицу, услышав от встречного: “Доброе утро”, улыбнулся идущей мимо, которая, проснувшись утром, умывшись, одевшись, позавтракав, зашнуровав ботинки, выйдя в коридор, заперев за собой дверь, спустившись на улицу, заметив улыбку прохожего, которому сказали: “Доброе утро”, благодарно и кокетливо отвела улыбающиеся глаза в сторону, туда, где официант, проснувшийся утром, умывшийся, одевшийся, позавтракавший, зашнуровавший ботинки, вышедший в коридор, заперший за собой дверь, спустившийся на улицу, увидевший кокетливо брошенный в сторону взгляд девушки, которой улыбнулся прохожий, которому сказали: “Доброе утро”, приветливо подал чашку кофе и сказал: “С уважением, ваш заказ” пожилому мужчине, проснулся утром, умылся, оделся, позавтракал, зашнуровал ботинки, вышел в коридор, запер за собой дверь, спустился на улицу, услышал: “С уважением, ваш заказ” от официанта, заметившего кокетливо брошенный в сторону взгляд девушки, которой улыбнулся прохожий, которому сказали: “Доброе утро”, сделал глоток самого вкусного в его жизни кофе и прошептал: “Возвращайся, жизнь все еще прекрасна” ангелу, которым теперь является его горячо любимая, умершая год назад, жена, проснувшаяся утром, улыбнувшаяся, одевшаяся, полюбовавшаяся белоснежными облаками, расправившая крылья, спустившаяся с небес на землю, севшая за столик кафе, прямо напротив своего милого мужа и теперь точно уверенная в том, что, пусть вернуться и нельзя, однако, жизнь действительно все еще достаточно прекрасна для ее старика.
Точно также, как, другим, но все тем же самым утром, ты, он, она, я, идя по одной из любых улиц любого района любого города любой страны одной единственной планеты,– голодные с самого утра, а точнее, уже практически неделю, встретим бредущую навстречу собаку, которая посмотрит нам в глаза своими голодными, золотыми, печальными и одинокими глазами и прижмется к нашим ногам, так нежно, ласково, умоляюще, преданно и доверчиво, как никогда и никто ни к одному из нас не прижимался, и мы, безвольно и побежденно, будем стоять, смотреть на эту собаку и гладить ее; точно также губы наши будут шептать слова успокоения и благодарности этой самой собаке. И словами этими будут: “Я здесь”.
Но, меня нет. Меня нет, а ты был, помнишь?
Ты помнишь,как когда-то мы с тобой играли? Вернее, это ты играл, а я покатывалась со смеху, крича: “Еще, еще, еще!”, и конечно же, завидовала тебе. Просто потому что нам для игры всегда нужен был кто-то, пусть даже кто-то совсем посторонний, неуклюжий и совершеннейше дикий. А ты самозабвенно играл сам с собой, смеясь от удовольствия, наслаждаясь собственной грацией, поддакивая себе, подбадривая себя.
Я завидовала твоему умению восхищаться собой – когда ты был прославленным королем; твоему умению наказывать себя – раба или провинившегося слугу.
Мы тоже были детьми. Но мы взрослели, менялись. А ты оставался собой, смешным, игривым, или даже угрюмым, но ребенком, совершенно не взрослея, не меняясь, ругаясь на нас всех – за то, что мы взрослели.
Ты оставался ребенком даже тогда, когда, по мере насыщения нашей жизни заботами взрослых людей, мы, один за другим, уходили. От тебя уходили.
И ты все чаще оставался наедине с собой, в холодной комнате, наполненной множеством старых картонок, разбросанных совершенно везде, в каждом углу, во всех, даже самых нелепейших, местах, и, чтобы их все собрать и достроить наконец свой карточный домик, достигавший уже невероятных размеров, тебе приходилось часами рыться в старых, пыльных вещах. И там, в этих грудах прошедшего времени, ты конечно же находил что-то, что непременно, не откладывая, нужно было достать, изучить, разобрать, прочесть. И это конечно же требовало еще времени.
А потом наступал вечер, и в тебе просыпался страх. Ведь ты, отважный воин, победивший не одного дракона в лесу, за домом, ты начинал дрожать при одной только мысли о темноте, о холоде,– ты сам это говорил,– шепчущем тебе странные, непонятные, пугающие тебя истории.
И тогда ты начинал плакать, очень тихо и самозабвенно плакать. И никто, совершенно никто этого не видел, а значит, не знал, и потому не мог прийти на помощь, зажечь свет, укрыть тебя своим теплом. Ты продолжал плакать, нервно вздрагивая и невнятно цокая языком, совершенно в такт мерному ходу почти развалившихся бронзовых часов. Никто не знал о том, где ты находишься, забывая, или не желая проследить за тобой, для того, чтобы хоть раз узнать твою тайну, обладать ею вместе с тобой, рассказать тебе о том, что с ней делать.
И ты, наконец решившись, натягивал на голову шапку машиниста и, резко бросаясь вперед, запихивал припасенную, отрытую еще утром горсть угля в топку оранжево-зеленого поезда, с силой давил на цепочку семафора. Твой железнодорожный состав стонал, вздрагивал и, напустив в сырую комнату едкого пара, медленно, доводя со сонного состояния, бороться с которым у тебя никогда не хватало сил, полз вдоль закрытого плотными ставнями и выцветшей драпировкой окна, вдоль дубового стола, заваленного невероятным нагромождением бумаг, почти половину из которых ты уже успел разобрать, разложить, приклеев к каждой их них уголочки всех цветов радуги, но совершеннейше забыв прочитать хотя бы одну из них, на неуклюжую платформу, состоящую всего из одной крохотной площадки с чайную ложечку, к узкой хрустальной дверце.