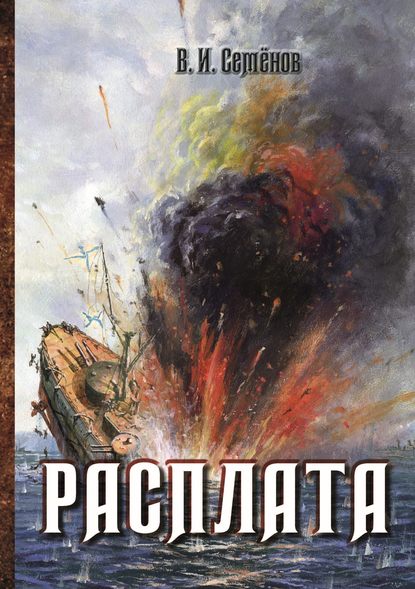По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расплата
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я ступил несколько шагов вперед, вдоль по фронту.
– Спасибо за службу, молодцы! Дай Бог вам и вашему миноносцу скорой встречи с неприятелем и славного боя! Прощайте!
– Рады стараться! Покорнейше благодарим! Счастливо оставаться!.. – загудело во тьме нестройно, но так сердечно, что… я был рад мраку ночи…
Традиционный поцелуй боцману, последнее рукопожатие офицерам, несколько взмахов весел… все кончено, все осталось далеко позади…
– Что случилось? В чем дело? – набросился я на приютившего меня (штабного) товарища, – что ж ты мне сказки рассказывал, что все налажено, все устроено…
– Но, пойми…
– Нет, ты пойми! Я бросил свое место ради войны! Кронштадтские транспорты не хуже артурских, да ведь я не пошел бы на них! Всю службу провел на боевых судах, а пришла война – попал на транспорт… Что ж это такое? Не нашлось у вас, что ли, цензовиков для «Ангары»? Непочатый угол, я думаю!..
– Погоди! Погоди! Отругался – и будет. Все было сделано так, как я говорил. И корректуру приказа поднесли на утверждение, как всегда, для проформы… Вдруг – собственноручно, зеленым карандашом, вычеркнул; говорит: «есть старше». Вильгельм Карлович пробовал за тебя заступиться… Куда ж, – говорит, – его? Ведь был назначен старшим офицером… – А он: на «Ангару»! – и сам пометку сделал… «Он» все помнит…
Я плохо спал эту ночь, вернее – вовсе не спал.
Старшинство было, очевидно, пустым предлогом. Из числа командиров миноносцев можно было насчитать нескольких много моложе меня… Но тогда что же? Неужели теперь, в такое время, на таком посту, помнить, что несколько лет тому назад какой-то лейтенант не захотел быть придворным летописцем… Помнить, что этот маленький чин осмелился сказать «его» адъютанту, что никогда еще не продавал ни своего пера, ни своей шпаги!.. Но ведь если даже унижаться до таких мелких личных счетов, так и это – счеты мирного времени!.. Перед грозой войны о них забыть нужно! Так честь, так долг, так совесть велит!..
«Не может быть! – думал я, ворочаясь на постели и тщетно пытаясь уснуть. – Ведь у нас война! Настоящая война, а не китайская бутафория… На войне охотников-добровольцев пускают в первую голову!..»
С невольной горечью вспомнился рассказ про одного из наших известных адмиралов, как он, будучи еще старшим офицером, на замечание командира, отличавшегося самовластием (чтобы не сказать самодурством) – У меня так служить нельзя! – ответил: – Я не у Вас служу, а с Вами служу Государю Императору! Меня нанять к себе на службу – у Вас денег не хватит!
Какой ужасной ересью было бы признано такое исповедание веры в Порт-Артуре времен наместничества!..
Чуть забрезжил свет, я уже был на ногах и, едва дождавшись положенного срока (начала присутствия), поспешил в штаб.
В. К. Витгефт принял меня немедленно, но еще более, чем в первое свидание, казался озабоченным и смущенным.
– Напрасно Вы так огорчаетесь насчет «Ангары», – пробовал утешить он, – это вовсе не транспорт, она уже зачислена в крейсерский отряд. Ей, может быть, предстоят весьма важные операции. Пароход недавно принят от Добровольного флота; команда сборная. На Вас рассчитывают, что Вы там все устроите… Это дело старшего офицера… и очень ответственное и серьезное дело… – Но если назначение такое почетное, то несомненно на него найдутся кандидатуры и старше, и достойнее меня. Я отнюдь его не домогаюсь. Я был назначен старшим офицером на «Боярин». «Боярин» погиб. Смешно было бы проситься на другой корабль тоже старшим офицером; я и не думаю об этом, но я прошу какого-нибудь места на боевом корабле! Для этого я сюда ехал. Вы меня знаете – я штурман первого разряда, много плавал, и здешние места знакомы мне в совершенстве… Назначьте меня штурманом! Если нельзя – хоть вахтенным начальником! Я всем буду доволен!
Адмирал, всегда бывший плохим дипломатом, не выдержал роли и, перегнувшись ко мне через стол, беспомощно развел руками.
– Ну, что я могу? Неужели Вы думаете, что я бы… Но, когда… понимаете, собственноручно! Зеленым карандашом!..
Не стоит говорить о том, что я думал и чувствовал, выходя из штаба…
На пороге меня задержал один из старых приятелей.
– Макаров назначен в Тихий океан со званием командующего флотом, – скороговоркой на ухо шепнул он.
– Что?.. А Вы?..
– Уезжаем… Доволен? Теперь не засидишься на «Ангаре»! Только не болтай, пока – секрет…
Я от души пожал ему руку и с облегченным сердцем отправился к новому месту службы.
Глава III
На «Ангаре» мне впервые пришлось встретиться с очевидцами катастрофы 26 января и непосредственными участниками боя 27 января, притом встретиться в кают-компании в качестве сослуживца, а не чужого человека.
Позволю себе здесь маленькое отступление. Принимаясь за настоящую работу, я вовсе не собирался писать истории минувшей войны на море. Такой труд будет возможно осуществить во всей его полноте лишь тогда, когда для исследователя откроются ныне закрытые архивы, когда «секретные», «весьма секретные» и «конфиденциальные» донесения, предписания и отношения сделаются общим достоянием. В настоящий момент мы волей-неволей вынуждены довольствоваться официальными реляциями (в которых многое опущено, многое подчеркнуто – сообразно условиям военного времени) и частными источниками.
В числе последних лично для меня является, вполне естественно, самым достоверным мой дневник, который я вел беспрерывно со дня отъезда из Петербурга, 16 января 1904 г., и до возвращения туда же 6 декабря 1905 г. В него записаны все факты, которых я был непосредственным свидетелем, равно как и рассказы очевидцев, переданные под первым, свежим впечатлением только что совершившегося события. Не одни только факты, но и отношение к ним окружающих заботливо отмечались мною. Теперь я хочу на основании этих моих заметок попытаться рассказать читателю не историю войны, но историю людей, принимавших в ней участие. Я хочу, насколько сумею, с фотографической точностью воссоздать те настроения, которые владели нами, рассказать без утайки о тех надеждах и сомнениях, которые нас волновали, о тех разочарованиях и тех ударах, которые довелось пережить…
Впечатление, вынесенное мною за первые дни моего пребывания в Порт-Артуре, было весьма странное… Казалось, только что совершившиеся грозные события не слишком занимали общественное мнение: чувствовалось, что все живут под гнетом страха, но не за судьбу эскадры или крепости, а за свою собственную, и притом не в смысле покушения на жизнь и достояние со стороны врага, а в смысле… благорасположения начальства.
Как-то еще обернется дело? Кто окажется виноватым? Не влететь бы в грязную историю?.. Эти вопросы, видимо, мучили всех – и высоких, и малых чинов.
Надо заметить, что население Порт-Артура составляли почти исключительно либо люди, находившиеся в непосредственных сношениях с казной, благосостояние которых всецело зависело от настроения начальства, либо служащие. Все либо отмалчивались, либо отговаривались незнанием, либо внезапно вспоминали неотложное дело, не позволяющее продолжать беседу. Ведь излагая факты, надо же было осветить их с той или иной точки зрения… а это было «крайне опасно»!.. Видимо, из опыта прежних лет всякий знал, что смелый отзыв, самостоятельное суждение – немедленно, неисповедимыми путями достигнут туда, куда следует, и неосторожный (часто недоумевая – в чем дело) вдруг почувствует на себе карающую руку… Это не было проявлением суровой дисциплины, как утверждали некоторые: ведь дисциплина – это есть сознательное подчинение закону всех, от самого старшего до самого младшего «не только за страх, но и за совесть», а здесь был только страх, страх перед всесильным, безответственным начальством…
Зато как развязались языки, когда известие о назначении адмирала Макарова (сколько ни старались сохранить его в секрете) разнеслось по городу!.. И здесь ярче всего сказалась цена этой дисциплины «токмо за страх». Уж я-то никоим образом не мог бы быть причислен к поклонникам наместника, но и меня не раз коробило «ослиное копыто», проглядывавшее в смелых речах вчерашних «всепреданнейших»…
Эскадра Тихого океана, на которой я провел почти всю мою службу, не являлась для меня понятием отвлеченным или просто сборищем судов, – нет, это было живое, дорогое, близкое, проникнутое единым духом существо, с которым я сроднился, которое горячо полюбил. Отправляясь на Восток, мне всегда казалось, что я еду «домой». Я был участником жизни этой эскадры, когда, если можно так выразиться, она была еще в детском возрасте, а за последнее плавание, продолжавшееся пять лет, был свидетелем расцвета ее сил во времена командования Дубасова и Гильтебрандта… Мне не пришлось наблюдать ее последнего упадка – я видел только ее гибель.
«Но неужели же за три года моего отсутствия, – спрашивал я себя, – могла совершиться такая перемена? Могла погибнуть, разложиться на составные элементы такая стройная, могучая организация?..»
Живя в Кронштадте, я, конечно, знал об учреждении в Тихом океане вооруженного резерва, о сокращении кредитов на плавание, вследствие чего корабли, даже избегнувшие резерва, плавали не больше 20 дней в году[19 - Начиная с 1902 г. большие корабли эскадры Тихого океана четыре месяца в году стояли в портах в так называемом вооруженном резерве – в 12-часовой готовности к выходу в море, а остальные восемь месяцев находились в кампании. Ежегодная наплаванность броненосцев и крейсеров эскадры была выше, чем таких же кораблей японского флота. Сравнительно редкими у русских были эскадренные (совместные) плавания.], а остальное время изображали собою плавучие казармы; знал также о постоянных переводах и перемещениях офицеров, но вера в «эскадру» оставалась во мне непоколебимой.
«Это временное, – думалось мне. – Внешние причины создали некоторое расстройство, и стоит им исчезнуть, чтобы порядок восстановился. Подойдет война, и «гастролеры» отхлынут; офицеры поспешат вернуться на «свои» корабли, и эскадра заживет полной жизнью».
Я так хорошо помнил, так сроднился с этим культом «своего» корабля, господствовавшим на эскадре. Я знал лейтенанта, пробывшего уже три года в чине, но за отсутствием естественного, домашнего, движения все еще остававшегося вахтенным офицером (по сухопутному – субалтерн-офицер) и упорно отказывавшегося от назначения вахтенным начальником потому, что такое повышение неизбежно обусловливало перевод с «нашего «Нахимова» на «какой-то «Корнилов»; знал другого лейтенанта, бывшего офицером уже 15 лет, который, состоя старшим артиллеристом на броненосце внутреннего плавания и узнав, что «его «Донской», недавно вернувшийся из Тихого океана, внезапно опять отправляется туда, бросился просить по начальству и был счастлив, добившись назначения на «свой» крейсер на должность вахтенного начальника (на содержание вдвое меньшее)… Я мог бы привести еще много подобных примеров, но думаю, что и этих достаточно.
Я помнил запальчивую молодежь, всегда готовую, с оружием в руках, потребовать удовлетворения за непочтительный отзыв о «своем» корабле, и разыгрывавшиеся на той же почве драки под гулявших на берегу матросов, решавших вопросы чести «своего» корабля более простым и грубым способом…
Да не подумает читатель, что это было своего рода бретерство.
Совсем нет.
Такое настроение наиболее впечатлительных элементов вполне естественно вытекало из убеждения, что если каждый отдает всю свою заботу, всю энергию на службу «своему» кораблю, то он, этот корабль, не может не быть самым лучшим! Ведь за каждым маневром, за каждой работой, на каждом общем учении сотни ревнивых глаз следили за своими соседями, и, сохрани Бог, если дружный хор этих строгих и опытных критиков уличал кого-нибудь в том, что они «показывают Петрушку»… На почве этого соревнования кораблей вырос «культ эскадры», в которой каждый корабль стремился быть лучшим ее украшением. Боже мой, как ревниво следили (по приказам, отчетам и корреспонденциям) за тем, что делается в других морях! Как стремились к первенству в боевом отношении, перед всякими другими эскадрами, отрядами!..
Адмирал Евгений Иванович Алексеев – наместник на Дальнем Востоке и главнокомандующий русских войск в Порт-Артуре и Маньчжурии
Помню, как, проплавав три года старшим штурманом на «Донском», я получил предложение адмирала Дубасова вступить в его штаб старшим флаг-офицером. Вышло это совсем неожиданно и так меня поразило, что я попросил сутки на размышление и, вернувшись «домой», стал советоваться с командиром, старшим офицером и старожилами кают компании: «Как быть? Можно ли бросить крейсер? Не будет ли это изменой?» Судили, рядили и пришли к заключению, что отказываться нельзя, что это не перевод на другой корабль, хотя бы и с повышением (что было бы некорректно по отношению к «своему» кораблю), но переход на службу всей «нашей» эскадре, в которой «Донской», хотя и самый лучший, но все же только один из многих…
Все это я помнил. И вот почему не колебалась моя вера в «эскадру». Я верил, что жив дух ее. Я не знал, что за эти три года, проведенные мною в Кронштадте, там, далеко, под Золотой горой Порт-Артура, делалось (может быть, бессознательно) все возможное к тому, чтобы угасить этот дух… что там командир, который действительно берег и любил свой корабль, который не скрывал никакой, хотя бы самой ничтожной, неисправности, докладывал о ней, просил разрешения ее исправить, так как с течением времени эта мелочь могла перейти в крупное повреждение, – такой командир считался «неудобным» и «беспокойным»…
Наместнику надо было только одно: чтобы за время его владычества не было других донесений, кроме – «все обстоит благополучно», – на основании которых сам он имел бы право всеподданнейше доносить, что «вверенный ему флот неизменно пребывает в полной боевой готовности и смело отразит всякое покушение со стороны дерзкого врага»[20 - До войны адмирал Е. И. Алексеев, выступавший против вооруженного резерва, многократно докладывал в С.-Петербург о необходимости усиления эскадры, снабжения ее боеприпасами и углем, оборудования портов, а также тщетно просил устранить хронический некомплект офицеров, порождавший частые их перемещения с корабля на корабль. Изучение документов показывает, что наместник, в отличие от высших руководителей Морского ведомства – адмиралов великого князя Алексея Александровича, П. П. Тыртова, Ф. К. Авелана и З. П. Рожественского, верно оценивал реальную угрозу войны с Японией. Опоздание в мобилизации армии и флота на Дальнем Востоке и полумеры в обеспечении безопасности эскадры от внезапного нападения во многом объяснялись распоряжениями официального С.-Петербурга. Ответственность за эти распоряжения, наряду с высшим командованием российского флота, несли руководители Министерства иностранных дел и Особый комитет по делам Дальнего Востока, во главе которого стоял сам император Николай II.].
Кто не умел или (что еще хуже) не хотел проникнуться этим принципом, осмеливался думать, что служит не наместнику Его Величества, а самому Государю Императору, что наместнику он – только подчиненный и лишь Государю – верноподданный, что пред лицом Верховного Вождя и командующий флотом, и матрос 2-й статьи – одинаково слуги Престола и Отечества, ревность и преданность которых одинаково ценятся, вне зависимости от их иерархического положения, – те не в чести были…
Надо отдать полную справедливость: адмирал Алексеев, облеченный почти самодержавной властью, сумел достигнуть своей цели: близ него были исключительно если не «всеподданнейшие», то, по крайней мере, «всепреданнейшие»… O plebs’e[21 - Простонародье (лат). – Примеч. ред.], конечно, и думать не стоило – ему нужны только ежовые рукавицы, а что касается тех, которые были не близко и не далеко, т. е. в массе офицерства, – в среде их, путем постоянных переводов с корабля на корабль, систематически вытравливался всякий дух сплоченности, единения, внедрялась идея, что при благосклонности начальства, «числясь» на портовом пароходе, можно идти по службе много шибче, чем ревностно исполняя свои обязанности на боевом корабле.
Теперь – ни в порту, ни в клубе, ни даже в эскадре – нигде не приходилось слышать разговоров на старую, дорогую тему – «А вот у нас на корабле…» или «У нас, на эскадре…».
Все интересы сосредоточивались на успешном прохождении службы. Говорили о том, «кому подвезло», соображали насчет открывающихся вакансий, где больше содержания, какое место больше «на виду» у начальства… Правда, иногда раздавалось: «У нас в Артуре…». Но как обидно было слушать такие слова в разговоре морских офицеров, для которых, по образному определению адмирала Макарова, должно было бы считаться основой служебной этики: «В море – значит дома…». Превращение кораблей в плавучие казармы, видимо, удалось выполнить с блестящим успехом…
Я был поражен… Мне было так обидно видеть этот раз гром личного состава «нашей» эскадры… Лишь кое-где, на некоторых судах, как будто сохранились еще отблески старых традиций…
– Спасибо за службу, молодцы! Дай Бог вам и вашему миноносцу скорой встречи с неприятелем и славного боя! Прощайте!
– Рады стараться! Покорнейше благодарим! Счастливо оставаться!.. – загудело во тьме нестройно, но так сердечно, что… я был рад мраку ночи…
Традиционный поцелуй боцману, последнее рукопожатие офицерам, несколько взмахов весел… все кончено, все осталось далеко позади…
– Что случилось? В чем дело? – набросился я на приютившего меня (штабного) товарища, – что ж ты мне сказки рассказывал, что все налажено, все устроено…
– Но, пойми…
– Нет, ты пойми! Я бросил свое место ради войны! Кронштадтские транспорты не хуже артурских, да ведь я не пошел бы на них! Всю службу провел на боевых судах, а пришла война – попал на транспорт… Что ж это такое? Не нашлось у вас, что ли, цензовиков для «Ангары»? Непочатый угол, я думаю!..
– Погоди! Погоди! Отругался – и будет. Все было сделано так, как я говорил. И корректуру приказа поднесли на утверждение, как всегда, для проформы… Вдруг – собственноручно, зеленым карандашом, вычеркнул; говорит: «есть старше». Вильгельм Карлович пробовал за тебя заступиться… Куда ж, – говорит, – его? Ведь был назначен старшим офицером… – А он: на «Ангару»! – и сам пометку сделал… «Он» все помнит…
Я плохо спал эту ночь, вернее – вовсе не спал.
Старшинство было, очевидно, пустым предлогом. Из числа командиров миноносцев можно было насчитать нескольких много моложе меня… Но тогда что же? Неужели теперь, в такое время, на таком посту, помнить, что несколько лет тому назад какой-то лейтенант не захотел быть придворным летописцем… Помнить, что этот маленький чин осмелился сказать «его» адъютанту, что никогда еще не продавал ни своего пера, ни своей шпаги!.. Но ведь если даже унижаться до таких мелких личных счетов, так и это – счеты мирного времени!.. Перед грозой войны о них забыть нужно! Так честь, так долг, так совесть велит!..
«Не может быть! – думал я, ворочаясь на постели и тщетно пытаясь уснуть. – Ведь у нас война! Настоящая война, а не китайская бутафория… На войне охотников-добровольцев пускают в первую голову!..»
С невольной горечью вспомнился рассказ про одного из наших известных адмиралов, как он, будучи еще старшим офицером, на замечание командира, отличавшегося самовластием (чтобы не сказать самодурством) – У меня так служить нельзя! – ответил: – Я не у Вас служу, а с Вами служу Государю Императору! Меня нанять к себе на службу – у Вас денег не хватит!
Какой ужасной ересью было бы признано такое исповедание веры в Порт-Артуре времен наместничества!..
Чуть забрезжил свет, я уже был на ногах и, едва дождавшись положенного срока (начала присутствия), поспешил в штаб.
В. К. Витгефт принял меня немедленно, но еще более, чем в первое свидание, казался озабоченным и смущенным.
– Напрасно Вы так огорчаетесь насчет «Ангары», – пробовал утешить он, – это вовсе не транспорт, она уже зачислена в крейсерский отряд. Ей, может быть, предстоят весьма важные операции. Пароход недавно принят от Добровольного флота; команда сборная. На Вас рассчитывают, что Вы там все устроите… Это дело старшего офицера… и очень ответственное и серьезное дело… – Но если назначение такое почетное, то несомненно на него найдутся кандидатуры и старше, и достойнее меня. Я отнюдь его не домогаюсь. Я был назначен старшим офицером на «Боярин». «Боярин» погиб. Смешно было бы проситься на другой корабль тоже старшим офицером; я и не думаю об этом, но я прошу какого-нибудь места на боевом корабле! Для этого я сюда ехал. Вы меня знаете – я штурман первого разряда, много плавал, и здешние места знакомы мне в совершенстве… Назначьте меня штурманом! Если нельзя – хоть вахтенным начальником! Я всем буду доволен!
Адмирал, всегда бывший плохим дипломатом, не выдержал роли и, перегнувшись ко мне через стол, беспомощно развел руками.
– Ну, что я могу? Неужели Вы думаете, что я бы… Но, когда… понимаете, собственноручно! Зеленым карандашом!..
Не стоит говорить о том, что я думал и чувствовал, выходя из штаба…
На пороге меня задержал один из старых приятелей.
– Макаров назначен в Тихий океан со званием командующего флотом, – скороговоркой на ухо шепнул он.
– Что?.. А Вы?..
– Уезжаем… Доволен? Теперь не засидишься на «Ангаре»! Только не болтай, пока – секрет…
Я от души пожал ему руку и с облегченным сердцем отправился к новому месту службы.
Глава III
На «Ангаре» мне впервые пришлось встретиться с очевидцами катастрофы 26 января и непосредственными участниками боя 27 января, притом встретиться в кают-компании в качестве сослуживца, а не чужого человека.
Позволю себе здесь маленькое отступление. Принимаясь за настоящую работу, я вовсе не собирался писать истории минувшей войны на море. Такой труд будет возможно осуществить во всей его полноте лишь тогда, когда для исследователя откроются ныне закрытые архивы, когда «секретные», «весьма секретные» и «конфиденциальные» донесения, предписания и отношения сделаются общим достоянием. В настоящий момент мы волей-неволей вынуждены довольствоваться официальными реляциями (в которых многое опущено, многое подчеркнуто – сообразно условиям военного времени) и частными источниками.
В числе последних лично для меня является, вполне естественно, самым достоверным мой дневник, который я вел беспрерывно со дня отъезда из Петербурга, 16 января 1904 г., и до возвращения туда же 6 декабря 1905 г. В него записаны все факты, которых я был непосредственным свидетелем, равно как и рассказы очевидцев, переданные под первым, свежим впечатлением только что совершившегося события. Не одни только факты, но и отношение к ним окружающих заботливо отмечались мною. Теперь я хочу на основании этих моих заметок попытаться рассказать читателю не историю войны, но историю людей, принимавших в ней участие. Я хочу, насколько сумею, с фотографической точностью воссоздать те настроения, которые владели нами, рассказать без утайки о тех надеждах и сомнениях, которые нас волновали, о тех разочарованиях и тех ударах, которые довелось пережить…
Впечатление, вынесенное мною за первые дни моего пребывания в Порт-Артуре, было весьма странное… Казалось, только что совершившиеся грозные события не слишком занимали общественное мнение: чувствовалось, что все живут под гнетом страха, но не за судьбу эскадры или крепости, а за свою собственную, и притом не в смысле покушения на жизнь и достояние со стороны врага, а в смысле… благорасположения начальства.
Как-то еще обернется дело? Кто окажется виноватым? Не влететь бы в грязную историю?.. Эти вопросы, видимо, мучили всех – и высоких, и малых чинов.
Надо заметить, что население Порт-Артура составляли почти исключительно либо люди, находившиеся в непосредственных сношениях с казной, благосостояние которых всецело зависело от настроения начальства, либо служащие. Все либо отмалчивались, либо отговаривались незнанием, либо внезапно вспоминали неотложное дело, не позволяющее продолжать беседу. Ведь излагая факты, надо же было осветить их с той или иной точки зрения… а это было «крайне опасно»!.. Видимо, из опыта прежних лет всякий знал, что смелый отзыв, самостоятельное суждение – немедленно, неисповедимыми путями достигнут туда, куда следует, и неосторожный (часто недоумевая – в чем дело) вдруг почувствует на себе карающую руку… Это не было проявлением суровой дисциплины, как утверждали некоторые: ведь дисциплина – это есть сознательное подчинение закону всех, от самого старшего до самого младшего «не только за страх, но и за совесть», а здесь был только страх, страх перед всесильным, безответственным начальством…
Зато как развязались языки, когда известие о назначении адмирала Макарова (сколько ни старались сохранить его в секрете) разнеслось по городу!.. И здесь ярче всего сказалась цена этой дисциплины «токмо за страх». Уж я-то никоим образом не мог бы быть причислен к поклонникам наместника, но и меня не раз коробило «ослиное копыто», проглядывавшее в смелых речах вчерашних «всепреданнейших»…
Эскадра Тихого океана, на которой я провел почти всю мою службу, не являлась для меня понятием отвлеченным или просто сборищем судов, – нет, это было живое, дорогое, близкое, проникнутое единым духом существо, с которым я сроднился, которое горячо полюбил. Отправляясь на Восток, мне всегда казалось, что я еду «домой». Я был участником жизни этой эскадры, когда, если можно так выразиться, она была еще в детском возрасте, а за последнее плавание, продолжавшееся пять лет, был свидетелем расцвета ее сил во времена командования Дубасова и Гильтебрандта… Мне не пришлось наблюдать ее последнего упадка – я видел только ее гибель.
«Но неужели же за три года моего отсутствия, – спрашивал я себя, – могла совершиться такая перемена? Могла погибнуть, разложиться на составные элементы такая стройная, могучая организация?..»
Живя в Кронштадте, я, конечно, знал об учреждении в Тихом океане вооруженного резерва, о сокращении кредитов на плавание, вследствие чего корабли, даже избегнувшие резерва, плавали не больше 20 дней в году[19 - Начиная с 1902 г. большие корабли эскадры Тихого океана четыре месяца в году стояли в портах в так называемом вооруженном резерве – в 12-часовой готовности к выходу в море, а остальные восемь месяцев находились в кампании. Ежегодная наплаванность броненосцев и крейсеров эскадры была выше, чем таких же кораблей японского флота. Сравнительно редкими у русских были эскадренные (совместные) плавания.], а остальное время изображали собою плавучие казармы; знал также о постоянных переводах и перемещениях офицеров, но вера в «эскадру» оставалась во мне непоколебимой.
«Это временное, – думалось мне. – Внешние причины создали некоторое расстройство, и стоит им исчезнуть, чтобы порядок восстановился. Подойдет война, и «гастролеры» отхлынут; офицеры поспешат вернуться на «свои» корабли, и эскадра заживет полной жизнью».
Я так хорошо помнил, так сроднился с этим культом «своего» корабля, господствовавшим на эскадре. Я знал лейтенанта, пробывшего уже три года в чине, но за отсутствием естественного, домашнего, движения все еще остававшегося вахтенным офицером (по сухопутному – субалтерн-офицер) и упорно отказывавшегося от назначения вахтенным начальником потому, что такое повышение неизбежно обусловливало перевод с «нашего «Нахимова» на «какой-то «Корнилов»; знал другого лейтенанта, бывшего офицером уже 15 лет, который, состоя старшим артиллеристом на броненосце внутреннего плавания и узнав, что «его «Донской», недавно вернувшийся из Тихого океана, внезапно опять отправляется туда, бросился просить по начальству и был счастлив, добившись назначения на «свой» крейсер на должность вахтенного начальника (на содержание вдвое меньшее)… Я мог бы привести еще много подобных примеров, но думаю, что и этих достаточно.
Я помнил запальчивую молодежь, всегда готовую, с оружием в руках, потребовать удовлетворения за непочтительный отзыв о «своем» корабле, и разыгрывавшиеся на той же почве драки под гулявших на берегу матросов, решавших вопросы чести «своего» корабля более простым и грубым способом…
Да не подумает читатель, что это было своего рода бретерство.
Совсем нет.
Такое настроение наиболее впечатлительных элементов вполне естественно вытекало из убеждения, что если каждый отдает всю свою заботу, всю энергию на службу «своему» кораблю, то он, этот корабль, не может не быть самым лучшим! Ведь за каждым маневром, за каждой работой, на каждом общем учении сотни ревнивых глаз следили за своими соседями, и, сохрани Бог, если дружный хор этих строгих и опытных критиков уличал кого-нибудь в том, что они «показывают Петрушку»… На почве этого соревнования кораблей вырос «культ эскадры», в которой каждый корабль стремился быть лучшим ее украшением. Боже мой, как ревниво следили (по приказам, отчетам и корреспонденциям) за тем, что делается в других морях! Как стремились к первенству в боевом отношении, перед всякими другими эскадрами, отрядами!..
Адмирал Евгений Иванович Алексеев – наместник на Дальнем Востоке и главнокомандующий русских войск в Порт-Артуре и Маньчжурии
Помню, как, проплавав три года старшим штурманом на «Донском», я получил предложение адмирала Дубасова вступить в его штаб старшим флаг-офицером. Вышло это совсем неожиданно и так меня поразило, что я попросил сутки на размышление и, вернувшись «домой», стал советоваться с командиром, старшим офицером и старожилами кают компании: «Как быть? Можно ли бросить крейсер? Не будет ли это изменой?» Судили, рядили и пришли к заключению, что отказываться нельзя, что это не перевод на другой корабль, хотя бы и с повышением (что было бы некорректно по отношению к «своему» кораблю), но переход на службу всей «нашей» эскадре, в которой «Донской», хотя и самый лучший, но все же только один из многих…
Все это я помнил. И вот почему не колебалась моя вера в «эскадру». Я верил, что жив дух ее. Я не знал, что за эти три года, проведенные мною в Кронштадте, там, далеко, под Золотой горой Порт-Артура, делалось (может быть, бессознательно) все возможное к тому, чтобы угасить этот дух… что там командир, который действительно берег и любил свой корабль, который не скрывал никакой, хотя бы самой ничтожной, неисправности, докладывал о ней, просил разрешения ее исправить, так как с течением времени эта мелочь могла перейти в крупное повреждение, – такой командир считался «неудобным» и «беспокойным»…
Наместнику надо было только одно: чтобы за время его владычества не было других донесений, кроме – «все обстоит благополучно», – на основании которых сам он имел бы право всеподданнейше доносить, что «вверенный ему флот неизменно пребывает в полной боевой готовности и смело отразит всякое покушение со стороны дерзкого врага»[20 - До войны адмирал Е. И. Алексеев, выступавший против вооруженного резерва, многократно докладывал в С.-Петербург о необходимости усиления эскадры, снабжения ее боеприпасами и углем, оборудования портов, а также тщетно просил устранить хронический некомплект офицеров, порождавший частые их перемещения с корабля на корабль. Изучение документов показывает, что наместник, в отличие от высших руководителей Морского ведомства – адмиралов великого князя Алексея Александровича, П. П. Тыртова, Ф. К. Авелана и З. П. Рожественского, верно оценивал реальную угрозу войны с Японией. Опоздание в мобилизации армии и флота на Дальнем Востоке и полумеры в обеспечении безопасности эскадры от внезапного нападения во многом объяснялись распоряжениями официального С.-Петербурга. Ответственность за эти распоряжения, наряду с высшим командованием российского флота, несли руководители Министерства иностранных дел и Особый комитет по делам Дальнего Востока, во главе которого стоял сам император Николай II.].
Кто не умел или (что еще хуже) не хотел проникнуться этим принципом, осмеливался думать, что служит не наместнику Его Величества, а самому Государю Императору, что наместнику он – только подчиненный и лишь Государю – верноподданный, что пред лицом Верховного Вождя и командующий флотом, и матрос 2-й статьи – одинаково слуги Престола и Отечества, ревность и преданность которых одинаково ценятся, вне зависимости от их иерархического положения, – те не в чести были…
Надо отдать полную справедливость: адмирал Алексеев, облеченный почти самодержавной властью, сумел достигнуть своей цели: близ него были исключительно если не «всеподданнейшие», то, по крайней мере, «всепреданнейшие»… O plebs’e[21 - Простонародье (лат). – Примеч. ред.], конечно, и думать не стоило – ему нужны только ежовые рукавицы, а что касается тех, которые были не близко и не далеко, т. е. в массе офицерства, – в среде их, путем постоянных переводов с корабля на корабль, систематически вытравливался всякий дух сплоченности, единения, внедрялась идея, что при благосклонности начальства, «числясь» на портовом пароходе, можно идти по службе много шибче, чем ревностно исполняя свои обязанности на боевом корабле.
Теперь – ни в порту, ни в клубе, ни даже в эскадре – нигде не приходилось слышать разговоров на старую, дорогую тему – «А вот у нас на корабле…» или «У нас, на эскадре…».
Все интересы сосредоточивались на успешном прохождении службы. Говорили о том, «кому подвезло», соображали насчет открывающихся вакансий, где больше содержания, какое место больше «на виду» у начальства… Правда, иногда раздавалось: «У нас в Артуре…». Но как обидно было слушать такие слова в разговоре морских офицеров, для которых, по образному определению адмирала Макарова, должно было бы считаться основой служебной этики: «В море – значит дома…». Превращение кораблей в плавучие казармы, видимо, удалось выполнить с блестящим успехом…
Я был поражен… Мне было так обидно видеть этот раз гром личного состава «нашей» эскадры… Лишь кое-где, на некоторых судах, как будто сохранились еще отблески старых традиций…