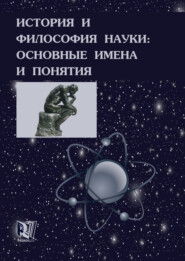По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человек в трех измерениях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вообще понятия «масса», «народ», «стадо» очень неопределенны и в какой-то мере являются виртуальными характеристиками, так же как виртуален сам этот слой населения. Виртуален потому, что он неуловим, ненаблюдаем на социальной поверхности. Можно говорить лишь о символах, которые используются в качестве козырных карт течениями, партиями, тенденциями. Массы не выражают себя – их зондируют. Они не рефлектируют – их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума – средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдумы, средства массовой информации выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации.
И вопросы, и ответы тестирования и анкетирования сочиняются представителями политических партий, СМИ, причем с таким искусством, что масса признает их за свои и с удовольствием слушает по TV «свое» мнение о тех или иных животрепещущих вопросах. Все эти исследования имеют дело не с объектом, который может быть представлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение. Поэтому он СМИ не схватывается, а всего лишь симулируется. Он ими «производится»: они предрешают то, как масса отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих от нее сигналов. Народ, каким его видели интеллигенты, в такой же степени представлял рабочих и крестьян, как ансамбль Моисеева – народное искусство. По сути, девять десятых населения не подлежат исследованию вообще. «Мы всегда имеем дело с мифом о народе. Этот миф и является самой реальной категорией, поскольку им оперируют все партработники, писатели-деревенщики, диссиденты, поэты-почвенники и даже статистика. Для интеллигенции миф о народе был не просто реальностью, но и полигоном, где интеллигент получал право на жизнь – будь то герои Горького или Аксенова»[61 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2001. С. 214.].
Сам же народ, как отметил еще Пушкин, безмолвствует. За него всегда говорит власть или чаще всего, поскольку власть, как правило, косноязычна, интеллигенция, которая якобы слышит народные думы и пытается их выразить на языке литературы. «Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребованной референциальности, всех не-извлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений – масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно»[62 - Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. С. 11. «Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто- или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции – всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными – и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков – эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под ее воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того, ни другого нет, и то и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, – это лежит на поверхности, и, тем не менее, именно это и только это делает массы массами» (Там же. С. 17–18).].
Естественность и вера
Любая религия – от самых архаических, примитивных до современных духовных течений – это не свод правил поведения, не учение о нравственном образе жизни, а метафизика, т. е. учение о другом мире и возможностях связи с этим миром. Природа религии, писал Флоренский, соединять Бога и мир, дух и плоть. Так, латинский глагол religo означает «завязывать», «привязывать». Человек первобытных обществ обычно старался жить, насколько это было возможно, среди священного, в окружении освященных предметов. Священное – это могущество, т. е. в конечном счете самая что ни на есть реальность. Священное могущество означает одновременно реальность, незыблемость и эффективность. Оппозиция «священное – мирское» часто представляется как противоположность реального и ирреального или псевдореального. Религиозный человек всей душой стремится существовать, глубоко погрузиться, участвовать в реальности, вобрать в себя могущество[63 - См.: Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 18.].
Размещение на какой-либо территории с необходимостью предполагает ее освящение. Найти свое место, оборудовать его, обжить – все действия предполагают у оседлых племен жизненно важный выбор вселенной, которую они «сотворяют», чтобы сделать своей. И эта «вселенная» всегда является подобием образцовой Вселенной, созданной и населенной богами. Слово «культ» (cultus) происходит, по Флоренскому, от colere (вращать), т. е. это вращение вокруг святой реальности, вокруг святыни, которая является неподвижной, абсолютной точкой мира, точкой отсчета. Мое положение в мире определяется моим отношением к святыне. Не только метафизически, но и географически. Определить себя географически, рассуждает Флоренский, значит дать географические координаты широты и долготы, значит иметь какие-то опорные пункты и осознавать свое место относительно них. Например, столько-то градусов долготы от Москвы. Но что такое Москва? Это уже не столько географический, сколько культурный термин. Культурные же определения опираются на культовые, поскольку они требуют, чтобы в конкретной реальности был установлен какой-нибудь смысл, а признание смысла уходит своими корнями в недра культа. Москва – центр России, средоточие русского духа, основных святынь и преданий, вокруг которых строится русская история, и т. д. Таким образом, всякая точка в пространстве получает смысл, если на ней лежит печать духа. Само пространство становится осмысленным и доступным пониманию, если в нем есть такие точки, такие «зарубки» духа.
Даже космическое пространство, совокупность светил, может быть названо, выделено, если проникнуто изначально священным осознанием. Геодезия, по мысли Флоренского, держится на астрономии, астрономия – на астрологии, астрология же – на звездопоклонении, а звездопоклонение – на мистическом окружении Безусловного и Вечного, являющегося и в этом смысле как-то воплощенного в звездных символах. Ведь ориентироваться в пространстве – это значит, по мнению П. Флоренского, установить свое отношение к тем или иным вещам мира. Но установка эта есть действие не внешнее, а внутреннее, есть некий акт разума и, следовательно, может обращаться не с внешним как таковым, а лишь с тем, что дано разуму как разумное, разумом проработанное и само доступное такой проработке.
В любой своей деятельности мы в конечном счете пользуемся тем, что дает культ. Если бы мы могли, утверждал Флоренский, вычерпать полностью из своего сознания культовое содержание, то не только лишились бы высших духовных ценностей, но и всех способностей ориентации в мире. Пространство, например, просто свилось бы, как в свиток, в безразличную среду, не имеющую в себе никаких расчленений, никаких координат, сознанию просто не за что было бы зацепиться.
Время для религиозного человека не однородно и не беспрерывно. Есть периоды Священного Времени. Это время праздников, есть мирское время, обычная временна?я протяженность, в которой разворачиваются действия, лишенные религиозной значимости. Между этими двумя разновидностями времени существует, разумеется, отношение последовательности; но с помощью ритуалов религиозный человек может без всякой опасности «переходить» от обычного течения времени к Времени Священному. «Главное различие между этими двумя качествами Времени на первый взгляд поразительно: Священное Время по своей природе обратимо в том смысле, что оно буквально является первичным мифическим Временем, преобразованным в настоящее. Всякий церковный праздник, всякое Время литургии представляют собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, “в начале”»[64 - Элиаде М. Там же. С. 48. Ср.: «Не только пространство, но и время производно от культа. Мы живем в ритме праздников. Мы считаем дни и года: столько-то от Рождества, столько-то от Пасхи, столько-то лет от Рождества Христова как начала летоисчисления. Уничтожьте все культовые времена – и не станет календаря, извлеките все религиозное содержание из времени – и оно сольется в безразличную среду» (Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды. М., 1977. Сб. XVII. С. 133).].
Естественный человек живет в двух планах времени, наиболее значимое из которых – Священное – парадоксальным образом предстает как круговое, обратимое и восстанавливаемое Время, некое мифическое вечное настоящее, которое периодически восстанавливается посредством обрядов. Для естественного человека священное – часть природы, необходимо вплетенное в нее, и для того, чтобы это священное ощутить, не нужно никаких специфических усилий.
В этом смысле естественный человек религиозен постольку, поскольку живет в рамках традиции и не может из нее вырваться. Он религиозен «инстинктивно», ибо живет в мире, преображенном и освященном религией, и эта религиозность – не более чем незаслуженный подарок естественному человеку. Он свою религиозность, свою веру не выстрадал, не рисковал за нее жизнью и здоровьем, не мучился сомнениями. Эта естественная религиозность может привести как к религиозности духовной, так и к антирелигиозности. На естественном уровне религиозность очень часто прячет под собой антирелигиозность, хотя внешне это может выступать как строгое следование догмам, как религиозный фанатизм. Антирелигиозность – это не атеизм, поскольку последний тоже вера, вера в то, что Бога нет, вера в человека. И если раньше существование нерелигиозных людей, видимо, было редчайшим исключением, даже парадоксом, то в современных западных обществах неверие стало массовым явлением. Человек теперь формирует себя сам, причем тем больше, чем больше удаляется он от священного, чем полнее десакрализует мир. Десакрализация особенно быстро идет в городах, там, где человек отделен от природы, не включен в нее органически, утратил символическую и эмоциональную связь с ней. Теперь гром – это уже не голос рассерженного Бога, в реке не живет дух, змея не воплощает мудрость, а горная пещера больше не жилище великого демона. Человек уже не слышит голоса камней, растений, животных. Его контакт с природой исчез, а с ним исчезла и глубокая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая связь. Он становится самим собой лишь тогда, когда вытравляет из себя все мистическое. И он станет действительно свободным лишь тогда, когда убьет последнего бога.
Естественному человеку нужны яркие иллюстрации, живой пример для подражания. В его душе и сознании намешано столько предрассудков, наивных догм, всевозможных сказок и легенд, что он буквально стеной отгорожен от настоящей веры. Чтобы Христос пронизал душу, ему надо теперь преодолеть не какой-то опыт рыбаков, надо пронзить, по Розанову, всю толщу впечатлений современного человека, весь мусор, которым он напичкан, надо преодолеть гимназию, университет, казенную службу, танцы, флирт, знакомых, друзей, книги, Бюхнера и т. д., надо вернуться к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Это невероятно сложное дело – «мусорного человека» превратить в «естественное явление»[65 - Розанов В.В. Опавшие листья. М., 1990. С. 547.].
Подавляющее большинство «инстинктивно верующих» или «неверующих» тем не менее не свободны от религиозного поведения, теологии и мифологии. «И речь не идет только о множестве “пережитков” и “табу” у современного человека; все они имеют магико-религиозную структуру и происхождение. Но современный человек, чувствующий и объявляющий себя неверующим, обладает всей скрытой мифологией, а также множеством деградировавших обрядов»[66 - Элиаде М. Указ. соч. С. 126. «Противоречивость животной и человеческой природы в человеке проявляется и в отношении естественного человека к религии, к Богу. Массы приняли во внимание только образ Бога, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так. Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла – это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, – они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, – за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу – то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле – в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт» (Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. С.12).].
Иногда они, писал М. Элиаде, завалены ворохом магико-религиозных представлений, искаженных до карикатурного состояния, а потому и плохо узнаваемых. Процесс разрушения святости человеческого бытия не раз приводил к возникновению гибридных форм дешевой магии с примитивной религией. «Мы не думаем о бесчисленных “микрорелигиях”, которыми кишат все современные города, о церквах, о сектах, о псевдооккультных, неоспиритуалистических или так называемых “герметичных” школах, хотя все эти явления относятся к сфере религии, даже если почти во всех случаях речь идет о нелепых разновидностях псевдоморфоза. Мы не намекали также на различные политические течения и социальные пророчества, хотя легко обнаруживается их мифологическая структура и религиозный фанатизм. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить мифологическую структуру коммунизма и его эсхатологический смысл. Маркс заимствует и развивает один из самых великих эсхатологических мифов азиатско-средиземноморского региона, а именно: искупительную роль Иисуса Христа (“избранник”, “помазанник”, “невинный”, “посланец”; ср. в наши дни – пролетариат), чьи страдания были призваны изменить онтологический статус мира. В самом деле, бесклассовое общество Маркса и постепенное исчезновение исторических антагонизмов точно повторяют миф о Золотом Веке, который, согласно многим традиционным верованиям, знаменует начало и конец Истории. Маркс обогатил этот древний миф всей мессианской идеологией иудеохристианства: с одной стороны, это роль проповедника, приписываемая пролетариату, и его избавительная миссия, с другой – последняя борьба Добра и Зла, в которой без труда узнается апокалиптический конфликт Христа с Антихристом, и окончательная победа Добра. Знаменательно также и то, что Маркс разделяет эсхатологическую надежду иудеохристианства об абсолютном конце Истории»[67 - Элиаде М. Указ. соч. С. 128.].
Всякая культура, считал Шпенглер, всегда религиозна. Иррелигиозность появляется как массовое явление лишь с наступлением цивилизации, с появлением мировых городов, с появлением массы вместо народа, современных кочевников вместо крестьянства и мелкопоместного дворянства. Мировой город лежит, как крайность неорганического начала, посреди культурного ландшафта, обитателя которого он отрывает от корней, притягивает к себе и потребляет. Появление нерелигиозной массы людей свидетельствует об исчерпаемости культуры, об усталости души. Так было и в Древнем Египте, и Древнем Китае, и у арабов, те же процессы происходят сейчас в Европе. «Речь идет вовсе не о политических и экономических, не даже о собственно религиозных или художественных превращениях. Речь идет вообще не об осязаемом, не о фактах, а о сущности души, без остатка реализовавшей свои возможности. Пусть не приводят в качестве возражения огромные достижения именно эллинизма и западноевропейской современности. Хозяйство, основанное на рабском труде, и машинная индустрия, «прогресс» и атараксия, александринизм и современная наука, Пергам и Байрейт, социальные условия, предполагаемые «Политейей» Аристотеля и «Капиталом» Маркса, суть только симптомы на поверхности исторической картины. Речь идет не о внешней жизни, не о жизненном укладе, не об институциях и нравах, а о глубочайшем и последнем, о внутренней исчерпанности обитателя мирового города – и провинциала. Для античности она наступила в римскую эпоху. В нашем случае срок ее отведен после 2000 года»[68 - Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 538. «Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна претвориться в историческое знание, – религия, которая подлежит строго научному изучению, – осуждена в то же время на полное уничтожение в конце пути» (Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 199–200).].
Цивилизация исповедует евангелие человечности, но речь идет о человечности интеллигентного горожанина, который сыт по горло поздним городом, а заодно и культурой, горожанина, «чистый» и, значит, бездушный разум которого ищет избавления от этой культуры и ее властной формы, от ее суровостей, ее внутренне уже не переживаемой и оттого ненавистной символики. «Когда начинают конструировать неметафизическую религию и ополчаются против культов и догм, когда естественное право противопоставляется разновидностям исторического права, когда берутся “разрабатывать” стили в искусстве, так как не выносят больше стиля как такового и не владеют им, когда государство воспринимают как “общественный порядок”, который можно и даже должно изменять (рядом с contrat social Руссо фигурируют совершенно идентичные изделия эпохи Аристотеля), – все это свидетельствует об окончательном распаде чего-то»[69 - Там же. С. 539.].
Все живые формы, все искусства, доктрины, обычаи, все метафизические и математические миры форм, каждый орнамент, каждая колонна, каждый стих, каждая идея в глубине глубин религиозны и должны быть таковыми. Но если сущность всякой культуры – религия, то сущность всякой цивилизации – иррелигиозность. Религиозна, писал О. Шпенглер, еще архитектура рококо, даже в самых светских своих творениях. Иррелигиозны римские сооружения, даже храмы богов. С Пантеоном, этой прамечетью, интерьер которой наполнен проникновенно магическим чувством Бога, в Древнем Риме очутился единственный экземпляр подлинно религиозной архитектуры. Сами мировые города на фоне старых культурных городов: Александрия на фоне Афин, Париж на фоне Брюгге, Берлин на фоне Нюрнберга – иррелигиозны. Иррелигиозными и бездушными являются и те этические миронастроения, которые, безусловно, относятся к языку форм мировых городов. Иррелигиозен социализм, так же как стоицизм и буддизм в сравнении с орфической и ведийской религией. «Это угасание живой внутренней религиозности, постепенно формирующее и наполняющее даже самую незначительную черту существования, и есть то, что в исторической картине мира предстает поворотом культуры к цивилизации, неким климактерием культуры, как это было названо мною раньше, стыком двух времен, когда душевная плодовитость известного рода людей оказывается навсегда исчерпанной, а созидание уступает место конструкции. Если понимать слово “неплодотворность” в его первоначальном смысле, то оно обозначает стопроцентную судьбу мозговых людей мировых городов, и к числу совершенно уникальных моментов исторической символики относится то, что поворот этот обнаруживается не только в угасании большого искусства, общественных форм, великих систем мысли, большого стиля вообще, но и совершенно телесно в бездетности и расовой смерти цивилизованных, отторгнутых от почвы слоев – феномен, неоднократно замеченный и оплаканный в римскую и китайскую императорскую эпоху, но неотвратимо доведенный до завершения»[70 - Там же. С. 546–547.].
Если религия отражает душу культуры, то исчезновение, выветривание религиозности, исчезновение из культуры святого, мистического, чудотворного приводит культуру, и прежде всего такие ее формы, как искусство, философия, к кризису, к возвращению «естественности» в том смысле слова, о котором говорилось выше. Прежде поэты как истинные представители искусства верили, что они занимаются таинством, чудом – иначе как таинством нельзя назвать возникновение живого слова. А ныне поэты-экспериментаторы отвернулись от чуда, как замечал В. Вейдле, им кажется, что они занимаются алхимией, магией, священным колдовством, но на самом деле речь идет не об алхимии, а просто о химии. Поэзию, литературу требуется просто очищать, как очищают спирт, выварить из ее живой ткани сильно действующий экстракт, заменить пищу питательной пилюлей[71 - См.: Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышление о судьбе литературы и художественного творчества. СПб., 1996. С. 103.].
Все попытки возврата к нерасчлененной целостности недостаточны, если искусство не укоренено в религиозном мировоззрении или, точнее сказать, в религиозной вере. Ведь в конце концов тоску по ней и выражают попытки вернуться к детству, к земле, погрузиться в ночные сны. Искусство есть язык религии. Целостный религиозный язык мы называем стилем. Когда религиозное напряжение ослабевает, когда религиозная жизнь перестает целиком наполнять созданный ею стиль, рассуждал В. Вейдле, тогда высказываемые в его формах религиозные содержания все больше заменяются другими, а эти другие все дальше отходят от религии. Постепенно стиль становится лишь системой форм, которые на том только и держатся, что они хорошо сложены, пригнаны одна к другой. В мире померкнувшем, остывшем искусство, считал Вейдле, не может оставаться навсегда единственным источником тепла и света: в тепле и свете оно нуждается само. Всеми своими корнями уходит оно в религию, но это совсем не значит, что оно может религию заменить; наоборот, оно само гибнет от длительного отсутствия религиозной одухотворенности, от долгого погружения в рассудочный, неверующий мир. Трагедия искусства, трагедия поэзии и поэта в наше время не может быть понята ни в плане эстетическом, ни в плане социальном; ее можно понять только в религиозном плане. Эстетический анализ покажет рассудочное разложение искусства, социальный анализ – растущую отчужденность художника, но только религиозное истолкование поможет нам усмотреть источник этой чуждости и этого распада.
Истинный художник в нашем мире остался духовным лицом среди мирян. «Нет мира; сокрылся Бог; в потемках один поэт – с маленькой буквы творец – ответствен за каждое слово, за каждое движение. Вовсе не одно то, что он пишет, важно. Еще важнее то, что он есть. Сожжение “Мертвых душ” столь же существенно, как и их создание, и в акте этого сожжения Гоголь все еще художник»[72 - Вейдле В.В. Умирание искусства. С. 83.].
Иррелигиозность массы привела к новому мироощущению, которое Ницше назвал нигилизмом. «Низший вид (“стадо”, “масса”, “общество”) разучился скромности и раздувает свои потребности до размеров космических и метафизических ценностей. Этим вся жизнь вульгаризируется: поскольку властвует именно масса, она тиранизирует исключения, так что эти последние теряют веру в себя и становятся нигилистами»[73 - Там же. С. 46.].
Будучи не в состоянии создать ничего нового, нигилизм консервирует религии, метафизики, всякого рода поверхностные убеждения. Но за всем этим, считал Ницше, скрывается усталость, фатализм, разочарование или злоба. На всей европейской жизни лежит тень усталости, слабости, старости, иссякающей силы. Нынешний социализм есть, по Ницше, прямое следствие нигилизма. Социализм – это до конца продуманная тирания ничтожнейших, глупейших, «на три четверти актеров». Социалисты полагают, что возможны такие условия, при которых исчезнет на земле злость и насилие, не будет пороков, преступлений, нужды. Но считать так – значит осудить жизнь. Не в воле общества оставаться молодым. И даже в полном своем расцвете оно выделяет всякие нечистоты и отбросы. От этого не спастись учреждениями и социальными преобразованиями.
Нигилизм как результат разрушающей деятельности просветительского гуманизма, результат ложно понятой сущности человека привел к исчерпанности возможностей европейской культуры, опирающейся на традиционные ценности. Все они уже стали полыми идолами. Религия, мораль, искусство, наука стали формами самоотчуждения и самоотрицания человека. Это катастрофа духовности, за которой последуют катастрофы социальных взрывов, революции. В ХХ в., считал Ницше, разразятся страшные войны, когда злобная и разрушительная энергия стада вырвется наружу.
Нигилизм – это неверие в высшие ценности, смерть Бога, возрастание бессмысленности жизни, пессимизм и отчаяние, господствующие над умами людей, это мировая ночь, опускающаяся на европейское человечество. Нет больше сильной личности, способной своей волей и интеллектом одухотворить мир, никто не хочет жить мужественно и самостоятельно, ища на свой страх и риск собственный жизненный путь, каждый прячется за другого, живет, подчиняясь шаблонам и стандартам, каждый полон сострадания и готов служить другому. Но человек должен жить для себя, пытаться изменить самого себя, из твари сделаться творцом, только тогда он может что-то сделать для других.
Человеку всегда нужен понятный смысл того, что он делает, ощущение себя дома, ощущение связанности своей крошечной и неприметной судьбы с мировым целым. Все это давало понятие Бога. Но постепенно, шаг за шагом Бог все более превращался в метафизическую абстракцию, в некую метафору бытия. Из человеческого опыта мира становится невозможно выявить никакого всеобщего опыта Бога, поскольку никакой Бог больше не соединяет ясно и отчетливо людей и вещи, и из такого собирания не складывается мировая история и человеческое пребывание в ней. Блеск божества затухает, теряется возможность связи с Богом. Хайдеггер полагал, что в современной ситуации человек не способен серьезно и строго поставить вопрос о том, присутствует ли Бог, если не осмыслен путь, приводящий его в то единственное место, где этот вопрос может быть поставлен. Он может быть поставлен человеком, находящимся в просвете бытия, – только в нем существует и имеет смысл вопрос о Боге, о Священном, О Святыне. Пока человек не чувствует и не слышит голос бытия, все его религиозные убеждения ни на чем не основаны, все они идут от ума, а не от сердца.
Смерть Бога – это широко распространившееся ныне ощущение потери смысла существования. Бог европейской истории утратил свою значимость, а вместе с ним пали его исторические производные – идеалы, принципы, нормы, цели и ценности. Все, что определяло человеческую жизнь, утратило безусловную и непосредственную силу действенности, раньше функционирующую безотказно. Прежний сверхчувственный «истинный» мир уже не несет в себе жизнь, он безжизнен и мертв. Он потерял свою привлекательность, он не спасает, не помогает, не обязывает, он стал бесполезной идеей, которую можно отбросить и ничего существенного в связи с этим не произойдет.
«Человек есть образ и подобие Божие». Как правило, справедливость этого символа доказывалась трансцендентными духовными началами человека – совестью, любовью, долгом, которые не имели объективных материальных причин, ниоткуда не выводились и ни к чему не сводились. Поскольку духовные начала также числились философами в разряде «неестественных», они принадлежали к другому «режиму бытия», потому что в этом мире действительно нет ни любви, ни совести, ни чести как постоянных объективных факторов жизни. Раз ни один человек не живет постоянно в этом режиме, а только в редкие минуты жизни впадает в него, критерий этого «впадения» может быть только субъективным. Но тогда возможно, что эта фраза о человеке как образе Божьем для естественного человека не более чем красивая аллегория.
Критики христианской религии считают, что подобная ситуация возникла в силу чрезмерной рационализации религии и ее догм. Религия начинает напоминать науку, она приводит массу доказательств бытия Бога, она обосновывает или опровергает эволюцию, интерпретирует «Большой взрыв» как начало творения и т. д. Чтобы стать верующим, не надо иметь живую душу, достаточно овладеть набором логических аргументов. Не надо никакой мистики и никаких таинств, если все можно понять и доказать рационально. Чтобы преодолеть этот рационализм, Розанов, например, ищет корни человеческого бытия не в Новом, а в Ветхом Завете. В библейской древности человеческая природа не была так затуманена в своей сути. Как считает философ, мы только умственно развились до великих теологических систем, тогда как Восток развился до ощущения святости. Соломон сотворил песню песней, а Кант «Критику чистого разума». Кого, спрашивается, предпочла бы царица Савская?
В христианстве потеряно Богоощущение, с тех пор как в него внедрилось жало смерти, как исчезла жажда телесности, как были отменены кровавые жертвоприношения. «…Кровь есть жизнь, кровь есть растущий факт, кровь есть источник сил и сильного. Религия, взявшая кровь в нить соединения своего с Богом – и была жизненна, растуща и реальна»[74 - Розанов В.В. Около церковных стен. СПб., 1906. С. 44.]. Кровь – это мистицизм и факт, и религии не миновать этого факта, иначе она будет не живым таинственным ощущением, а абстрактным, мертвенным логическим умозаключением.
Добро и зло в естественном состоянии
Все воспитатели и морализаторы исходят из того, что до-человеческое в человеке – это чаще всего источник зла. Сам по себе мир не добрый и не злой. Зла нет и в животном существовании. Зло есть только в человеке, который, несмотря на то что стал человеком, продолжает в той или иной степени оставаться животным. Как животная природа изначальнее, чем человеческое, духовное измерение, так и зло изначально по отношению к добру. Зло многообразно, насыщенно, всепроникающе и, главное, обыденно. Если добрый поступок нас восхищает и удивляет, то обман, жадность, корысть, нечистоплотность кажутся такими же естественными, как естественна плохая погода. Для злых поступков всегда есть конкретные причины, для добрых – нет. Всегда можно сказать, почему украл, почему убил. Добрые поступки неестественны, потому что не имеют естественных причин. Я спас человека не почему-то, а потому что не мог не помочь, я люблю не почему-то, а потому что не могу не любить. Мы не удивляемся, видя лень, жадность, жестокость, это все естественно, это соответствует нашей животной природе, но всегда удивляемся человеку, готовому отдать последнюю рубаху, готовому пожертвовать жизнью. Мы не удивляемся тому, что быстро утомляемся, но поражаемся людям, годами находящимся в состоянии творческого самоуглубления, потому что это неестественно. Мир полон зла не только потому, что непрерывно идут войны, существует преступность и коррупция, но и потому, что зло – неотъемлемая составная часть человеческой природы. Зло онтологично в сравнении с добром, которое обладает только аксиологической природой.
Первобытный человек жил в мире, населенном враждебными силами: дикими животными, одушевленными вещами, всевозможными демонами, всякой злобной по отношению к человеку нечистью. Все стремления человека направлялись на укрепление оборонительной стены вокруг себя. Первобытный ритуал включал в себя изгнание духов, освобождение от чар, предотвращение недобрых предзнаменований, искупление, очищение и другие магические действия.
Ф. Ницше, анализируя древнегреческую культуру, утверждал, что олимпийское искусство было только занавесом, которым грек заслонялся от страхов и ужасов существования, хорошо ему известных. Греки знали о муках Прометея, которому коршун каждый день клевал печень, знали об ужасающей судьбе Эдипа, знали о проклятиях, тяготевших над родом Атридов и принудивших Ореста к убийству матери.
Но духи, демоны, злые силы – это, как показал Юнг, не часть внешнего мира, это необходимая часть нашей психики, от их разрушительного воздействия спасает только культура. «Коллективное бессознательное, каким мы его знаем сегодня, ранее никогда не было психологическим. До христианской церкви существовали античные мистерии, а они восходят к седой древности неолита. У человечества никогда не было недостатка в могущественных образах, которые были магической защитной стеной против жуткой жизненности, таящейся в глубинах души. Бессознательные формы всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым выносились в лежащее за пределами души космическое пространство»[75 - Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. С. 104.].
Зло неистребимо, как тень людей. Зло – не отсутствие добра. Добро проявляется там, где зло временно отступает. Добро отсутствует чаще. Зло кажется более привлекательным, потому что идет от силы, от энергии, перехлестывающей через край. К. Леонтьев считал, что красивое и мужественное – морально, а все серое, мелкое – аморально. Юлий Цезарь в тысячу раз развращеннее Акакия Акакиевича, его степень зла несопоставима с героем Гоголя, но в нем в тысячу раз больше красоты, поэзии и правды, чем в мелком чиновнике. Мещанская мораль, предлагающая любить всех людей только потому, что они люди, хотя они ничего не сделали для того, чтобы быть людьми: ни героических поступков, ни больших дел, не проявили никакого мужества и настойчивости в отстаивании своего образа жизни, своих идей, – такая мораль, по Леонтьеву, на деле оказывается аморализмом.
Сильная власть, мощное государство, неравенство и борьба между людьми за место под солнцем, в которой побеждают сильные, злые, агрессивные, энергичные и властные люди, способствуют появлению в обществе великих людей, совершающих великие дела, полагал К. Леонтьев. «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить под давлением трех атмосфер – чиновничьей, помещичьей и церковной хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построился Кремль и его соборы, чтобы Cуворов и Кутузов смогли одержать свои национальные победы»[76 - Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского дневника 1880 года» // Леонтьев К.Н. Восток. Россия. Славянство. М., 2007. С. 22.].
Дочеловек, не чувствующий своего существования, подавляющий в себе приступы тоски и неудовлетворенности, неизбежно приходит к тому, что творит зло. Творить зло – это вовсе не обязательно совершать преступные или неблаговидные поступки. Часто человек не творит зло только потому, что не подвернулся случай. Но жить подобно заведенному автомату – тоже зло, измена своему человеческому назначению. Быть добрым – это искусство, и если им не владеешь (а овладеваешь, когда привыкаешь просчитывать последствия своих поступков), то неизбежно будешь делать зло. Мало желать добра, благими намерениям дорога в ад вымощена. Если окинуть общим взором всю жизнь человечества, писал Франк, то бросается в глаза парадоксальный, но явственный факт: «Все горе и зло, царящие на земле, все потоки пролитой крови, все бедствия, унижения, страдания по меньшей мере на 99 процентов суть результат воли к осуществлению добра, фанатичной веры в какие-либо священные принципы, которые необходимо немедленно претворить в жизнь, и воли к истреблению зла; тогда как едва ли одна сотая доля зла и бедствий обусловливаются действием откровенно злой, преступной и своекорыстной воли»[77 - Франк С.Л. Крушение кумиров // Франк С.Л. Соч. М., 1990. С. 128.].
Зло побеждается, изживается только на уровне искусственного человека, что же касается естественного состояния, то зло, насилие, месть, ненависть являются необходимым фоном, на котором разворачивается естественная жизнь. Зло – это и загаженные лифты и подъезды, грязная матерщина за окном, подростковый беспричинный садизм, усталые серые лица людей в метро, людей, готовых взорваться в любую секунду. Во все времена моралисты не уставали жаловаться на резкое падение нравов. Естественно, при этом они не приводили никаких статистических данных, просто замечали, что вокруг больше дурных людей, чем добрых, и отдавали дань идиллическому заблуждению, что раньше все было лучше. Теперь появилась сравнительная статистика, и она не подтверждает, что в нашу эпоху падение нравов сильнее, чем в любой предшествующей. Это не значит, что возрос моральный уровень людей (во все века у каждого народа количество негодяев и праведников скорее всего одинаково, так же как и количество дураков и умных), но очевидно, что общественное устройство эффективнее, чем прежде, обуздывает определенные проявления аморального поведения масс: алкоголизм, проституцию, детскую беспризорность и т. п.
Но в наш компьютерный век у зла больше возможностей просочиться в любую щель, в любую трещину человеческих отношений, больше возможностей прикинуться добром, убедить человека, что добро должно быть с кулаками, что кругом враги, что Родина – это не место рождения, а нечто святое, на что надо молиться и любить изо всех сил, а кто не любит изо всех сил – тот изменник и предатель и т. д., и т. п. Одинаковое количество негодяев во все времена скорее говорит о том, что человеческая природа не меняется. И кажется, что в человеке извечно живет не жажда быть, а восторг смерти[78 - «И он – человек – лютее тигра, лютее крокодила, акулы, гюрзы, ибо все животные изначально лишены права выбора в своих убийствах (не будет тигр есть лягушку, хоть задавись), а у человека есть разум для понимания, есть душа и тысячи книг от Пифагора до Мартина Лютера Кинга, которые учат, объясняют ему, порой становятся перед ним на колени – читай, дурак! – но он все равно убьет просто так, из собственной охоты, а книгой растопит печку. Это еще и без войны… Откуда в людях это – от Македонского до Гитлера, от Гитлера до Бен Ладена, от Бен Ладена до мальчишки, который душит собственную мать? И чем больше убитых, чем больше на земле крови, тем сильнее страсть к смерти – своей ли, чужой…» (Щербакова Г. Метка Лилит. М., 2005. С. 278).].
В человеке, пытающемся во что бы то ни стало удержаться в человеческом состоянии, не поддающемся никаким «животным» соблазнам – силе, власти, агрессивности, злобе, богатству, – словно возникает некая аура, и все окружающие заряжаются энергией добра. Можно одерживать блистательные победы, править народом, создавать финансовую империю – все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание. «Но бранить, смеяться, продавать, плакать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с самим собой мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой – это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, ве?домы такие же, если не более сложные обязанности, какие ве?домы жизни, не замыкающейся в себе.
Если бы кто спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто обратился с тем же вопросом к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, т. е. в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченным всегда и во всем»[79 - Монтень М. Опыты. М., 1981. Т. 3. С. 23.].
Любое общество с наступлением цивилизации стремится путем строгой дисциплины, дрессировки подавить в человеке его животные вожделения и страсти. Всякая мораль есть своего рода тирания по отношению к «природе» и заключается в том, чтобы учить ненавидеть слишком большую свободу и насаждать в нас потребность в ограниченных горизонтах, в ближайших задачах. «Ты должен повиноваться кому бы то ни было и долгое время: иначе ты погибнешь и потеряешь последнее уважение к самому себе» – таковым кажется Ницше моральный закон, обращенный к народам, расам, векам, сословиям. И в то же время мораль возникла как свод правил, которые создавала и вырабатывала небольшая прослойка людей, чтобы держать в повиновении остальное большинство. Ввиду того, считал Ницше, что во все времена существования людей существовали родовые союзы, общины, племена, народы, государства, церкви и всегда было слишком много повинующихся по отношению к небольшому числу повелевающих, можно предположить, что теперь в среднем каждому человеку прирождена потребность подчиняться, нечто вроде формальной совести, которая велит: «Ты должен делать что-то безусловно, а чего-то безусловно не делать»; словом – «ты должен». Эта обязанность требует исполнения всего, что только ни прикажет человеку кто-нибудь из повелевающих – родители, учителя, законы, сословные предрассудки, общественное мнение.
В противовес господствующей морали формировалась мораль стадная. Этимология слова «мораль» почти в любом европейском языке указывает на то, что синонимом слова «хороший» является «знатный», а «плохой» – «презренный». Презрением клеймят человека трусливого, малодушного, мелочного, думающего об узкой пользе, а также недоверчивого, со взглядом исподлобья, унижающегося, выносящего дурное обхождение, попрошайку-льстеца и лжеца. Все аристократы, по Ницше, были глубоко уверены в лживости простого народа. «Мы – правдивые» – так называли себя благородные в Древней Греции. Люди знатной породы чувствуют себя мерилом ценностей, они не нуждаются в одобрении, они говорят: «Что вредно для меня, то вредно само по себе», они сознают себя теми, кто дает достоинство вещам, они создают ценности.
Иначе обстоит дело с моралью людей подчиненных, управляемых. Предположим, рассуждал Ницше, что морализировать начнут люди насилуемые, угнетенные, страдающие, несвободные, не уверенные в самих себе и усталые, – какова будет их моральная оценка? Вероятно, в ней выразится пессимистически подозрительное отношение ко всей участи человека, быть может, даже осуждение человека вместе с его участью. Раб смотрит недоброжелательно на добродетели сильного: он относится скептически и с недоверием ко всему «хорошему», что чтится сильными; ему хочется убедить себя, что само их счастье не истинное. Наоборот, он окружает ореолом и выдвигает на первый план такие качества, которые служат для облегчения существования страждущих; таким образом входят в честь сострадание, услужливая, готовая на помощь рука, сердечная теплота, терпение, прилежание, кротость и дружелюбие, ибо для раба это наиполезнейшие качества и почти единственные средства, дающие возможность выносить бремя существования. Мораль рабов по своему существу есть мораль полезности. «Вот где источник возникновения знаменитого противоположения “добрый” и “злой” – в категорию злого зачисляется все мощное и опасное, обладающее грозностью, хитростью и силой, не допускающей презрения. Стало быть, согласно морали рабов, “злой” возбуждает страх; согласно же морали господ, именно “хороший” человек возбуждает и стремится возбуждать страх»[80 - Там же. С. 384.].
Некоторые сильные и опасные инстинкты, писал Ф. Ницше, как, например, предприимчивость, безумная смелость, мстительность, хитрость, хищничество, властолюбие, которые до сих пор ввиду их общеполезности приходилось не только чтить (разумеется, под другими именами), но даже развивать и культивировать воспитанием, потому что в них всегда нуждались во время общей опасности, – эти инстинкты теперь уже приобретают в глазах людей удвоенную силу по своей опасности, теперь, когда для них нет отводных каналов, – начинают клеймить как безнравственные и предавать проклятию. «Великий независимый дух, желание оставаться одиноким, великий разум кажутся уже опасными; все, что возвышает отдельную личность над стадом и причиняет страх ближнему, называется отныне злым; умеренный, скромный, приспосабливающийся, нивелирующий образ мыслей, посредственность
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: