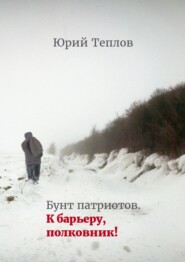По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Второй вариант
Автор
Жанр
Год написания книги
1988
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смешались сон и явь. «Годится», – говорил неулыбчивый Плетт. «Не годится, Савин-друг, – отвечал свистящим шепотом Коротеев. – На посмешище выставил! Кичеранга – самый дерьмовый участок, а ты мою фамилию черной краской! Сначала по стройкам с мое покрутись, с тайгой поборись!..» Две жирные колеи от тягача тянулись по зеленым мхам с вдавленным в них кедровым стлаником… Две полоски лыжни казались санной дорогой в лунном свете. Потом кто-то осторожно постучал в дверь, и в сознание проникла мысль, что пора просыпаться, хотя еще и рано. Видно, посыльный прибежал по тревоге или еще какая надобность. Стук в дверь возобновился, частый, дробный, оборвался, и Савин открыл глаза.
Какое-то мгновение не мог ничего понять. Потом разом все вспомнил, встрепенулся, обнаружив, что Ольги нет рядом. Не было ее и в зимовье. Уже рассвело. На стене у входа висели карабин, мелкашка, поняга. Слышно было, как горят в печке дрова.
Он еще не успел обеспокоиться, когда она вбежала в зимовье в желтенькой кофтенке и в спортивных шароварах, которых вчера на ней не было. Вбежала прямо к нему, следом за белым валком холода, сама вся морозно-разрумянившаяся. Наклонилась над ним:
– Проснулся, Женя!
– Кто-то в дверь стучал.
– Это дятел, Женя. Он рядом с зимовьем завтракает. Слышишь?
Опять раздалось осторожное «тук-тук-тук». Железноклювый дятел собирал с лиственницы короедов. Постучал и смолк, будто и впрямь просился в избушку: пустят ли хозяева?
– Войдите! – смеясь, крикнула Ольга.
– Не надо, не впускай, – сказал Савин. – Иди сюда.
– Нет-нет, Женя. Вставай. – И вспорхнула к дверям.
Он чувствовал себя как дома. И встал без стеснения, и оделся, и к ней подошел, потерся щекой о щеку.
– Ты колючий, – сказала она. – Я нагрела тебе воды умыться.
В зимовье было жарко. Он остался в майке и так вышел наружу, отказавшись от теплой воды. Задохнулся в момент текучим холодом, глотнул его всей грудью. Снег был ослепительно-чистым и мягким. Зачерпнул его пригоршнями, плесканул в лицо. Даже майку сбросил на пенек и, радуясь утру, стал полоскаться. Вместе с остудой в тело входила ликующая бодрость: все-таки чертовски хорошо жить на этом свете!
Ольга выскочила наружу, испуганно схватила его за руки, потащила в зимовье.
– Однако совсем с ума сошел! Зачем так, Женя, делаешь? Заболеть хочешь?
Он весело упирался, и ему было легко и беззаботно. Ни облачка впереди, ни дождя, ни бурана, солнце выкатилось, торжествуя и славя жизнь, нашарило в зимовье оконце, пронзило лучами: живите и радуйтесь! Опять вежливо постучал о лиственницу дятел.
– Схожу к нему, ладно? – сказал Савин.
– Сходи, Женя. – Она сама подала ему шубу и натянула шапку.
Утренняя тайга совсем не была похожа на вечернюю. Редкоствольный лес на этой стороне Эльги был насквозь пронизан светом. Савин прислушался, не даст ли знать о себе дятел. Но было тихо, только серебряно звенел лес. Он пошел напрямую, наугад, туда, где серебряный звон слышался более отчетливо. Перед ним, сцепившись лапами, стояли в куржаке молоденькие ели. А вокруг хороводились такие же молоденькие березки, которые вдруг замерли, увидев Савина, застеснялись, словно десятиклассницы в белых фартуках после выпускного вечера. И весь снег был изрисован птичьими следами. В их узорах показалось Савину что-то продуманное. Словно письмена неведомого мира. Может быть, и прошлой зимой следы располагались точно так же. Разве прочтешь их, не зная этой древней грамоты?
Савин не пошел дальше, свернул вдоль закрайка: пусть их хороводятся. И застыл, боясь пошевельнуться. На одинокой, обгорелой и расщепленной вверху лиственнице сидел глухарь. Савин его даже не заметил, пока тот не шелохнулся. И оба замерли.
Савин тихо попятился, затем, развернувшись, заторопился по своим следам в зимовье.
– Ольга! – сказал с порога. – Там – глухарь. Совсем рядом.
– На горелой лиственнице?
– Да. Он даже не улетел, увидев меня.
– Этот глухарь – мой друг, Женя. Его зовут Кешка. Так же, как и дядю. Кешка только у него может брать с ладони бруснику. Даже у меня не берет.
– Он так и живет здесь?
– Нет. На той стороне Эльги. А сюда кормиться прилетает каждое утро. И ждет меня. Просит мороженой брусники.
– Оленька, бросай печку. Завтракать потом будем. А сейчас пойдем глухаря кормить, а?
Глухарь сидел там же. Важно и безбоязненно поглядывал вниз. На высоте человеческого роста, на самом нижнем сучке была укреплена дощечка-кормушка, которую Савин поначалу не заметил. Ольга насыпала в нее алых бусин брусники. Глухарь шевельнул густо-красными, почти багровыми бровями, выпятил черную с синеватым отливом грудь и кивнул головой: спасибо, мол. Ольхон, сидя у ног Ольги, прянул ушами. Она шлепнула его по загривку, и уши опали. Глухарь выжидающе смотрел вниз, и Ольга сказала:
– Пойдем, Женя. Он не возьмет ягоды, потому что тебя совсем не знает.
Тропинка вывела их к реке. Под самым обрывом над водой курился пар.
– Никак не может Эльга уснуть. Видишь, Женя, опять наружу вырвалась. Она у нас с характером.
Струя воды выбивалась из-под ледяного одеяла, разбрасывалась поверху и застывала зеленоватыми кругами, образуя слоистую наледь. И парной дымок тянулся вверх, словно и на самом деле подо льдом ворочалось и дышало живое существо.
– Помнишь, Женя, ночью Ольхон лаял?
– Помню.
– Вон сохатый прошел. Справа его старые следы, видишь, вытянутые блюдечки? Их уже подровняло. А слева – целые тарелки. Это свежий след.
Следы терялись на противоположном отлогом берегу, заросшем тальником. Савину показалось, что сохатый до сих пор там: хрустнула сломанная ветка, шевельнулась корона рогов.
– Он ушел перед рассветом, Женя.
– Чем же он там кормился? Ни почек, ни листьев.
– Тальник грыз. Тальник в бескормицу всех спасает.
– Кого – всех?
– Изюбра, зайца, даже рябчика… А дальше, гляди, деревья повыше ростом.
– Вижу.
– Это чозения.
– На ветлу похожа.
– Не знаю ветлу. Чозения – самое древнее дерево в тайге. Летом у нее узкие серебряные листочки. Вдоль ствола вверх тянутся. Растет и на гальке, и на песке. А потом сбрасывает листья, и тогда рядом селятся другие деревья. Чозения жизнь им дает, а они потом у нее солнце отнимают. И она умирает…
Ольга замолчала. Пошла, притихшая, вдоль берега. У большого голого валуна остановилась.
– А вон там, Женя, живут мои ежи. Еж и ежиха, видишь?
Савин глядел и не видел никаких ежей.
– Ну, посмотри же внимательно. Носы в сугроб уткнули и снег лижут.