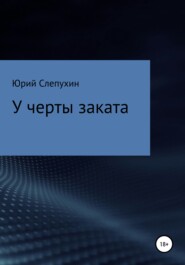По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не подводя итогов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И дело вовсе не в персоналиях, не в человеческих качествах того или иного сподвижника князя Львова или Керенского. Среди них были законченные мерзавцы как Некрасов, были хронически интриговавшие прохвосты как Львов (не премьер, а обер-прокурор Синода; если мне память не изменяет, он потом, вернувшись из эмиграции, рьяно трудился на ниве антирелигиозного просвещения, ходил в подручных у самого Губельмана-Ярославского). Но большинство членов и первого, и второго (коалиционного), и двух последовавших за этими кабинетов составляли все же люди порядочные и неглупые, искренне стремившиеся вытащить страну из хаоса. Дело, однако, было уже не в них.
К России, как мы с гордостью любим повторять, неприложимы никакие общечеловеческие мерки. Задолго до Тютчева, в силу непонятно какой логики ухитрившегося разглядеть здесь предмет восхищения, о нашей «особенной стати» куда более трезво высказался Чаадаев. Провидение предоставило нас самим себе, писал он, отказалось вмешиваться в наши дела, не захотело ничему научить. Исторический опыт для нас не существует; глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам отменен общий закон человечества… Да помилуйте, чем же тут гордиться?
Едва ли не самое убедительное доказательство того, что для нас и впрямь не существует никакого «закона человечества», – врожденное наше отвращение к демократическому правопорядку, неприятие самой его сути как чего-то глубоко нам чуждого, враждебного национальному духу. Что русскому здорово, то немцу смерть, а значит и наоборот: то, что годится для Запада, не годится для нас. Плохое ли, хорошее ли, – неважно. Не годится, и кончено.
С нами по части ксенофобии редко какой народ может сравниться, а как это сочетается с лакейской готовностью распластаться перед любым иностранцем – еще одна из загадок русской души. Скорее всего, тут действует своего рода inferiority complex[8 - Комплекс неполноценности (англ.).].
О глубокой антидемократичности нашего общественного сознания накануне революции предупреждали авторы «Вех», но предостережение не было услышано теми, кто эту революцию осуществил (речь о Февральской; Ленин-то хорошо знал, что делает и какого рода фаланстер намерен построить под вывеской «рабоче-крестьянского государства»). Поэтому наивны и на полном непонимании сути происходившего основаны разговоры о том, что если бы в 1917 году у опекунов демократии оказалось немного больше времени, чтобы дать окрепнуть хилому дитяти, то все могло бы наладиться, войти в нормальную цивилизованную колею. Вздор это, ничего бы не наладилось.
У нас «наладиться» не могло. А не могло прежде всего потому, что Россия была не просто не готова, но и органически не приспособлена к роли, на которую ее прочили идеологи Февраля, – роли послушной ученицы, прилежно и с благодарностью берущей у Запада уроки демократического правосознания. Трудно представить себе прожект более абсурдный, более нежизненный (и преступный, если оценить по последствиям), чем эта маниловщина, высиженная кадетскими гелертерами. Большевики, бросая клич «грабь награбленное!», знали свой народ куда лучше.
И уж вовсе самоубийственным оказался для Временного правительства взятый им курс на продолжение войны во имя союзнического долга.
Я не беру этих слов в кавычки и употребляю их сейчас без иронии – долг есть долг, и военный союз остается военным союзом, какова бы ни была подоплека отношений между его участниками. Но если оставить нравственную сторону вопроса, имелась еще и чисто прагматическая: невыгодно было на завершающем, победном этапе выигранной войны заключить сепаратный мир с уже готовым капитулировать противником. Общеизвестно, какой сокрушительный военный потенциал сумела накопить Россия к весне 1917 года, и в каком бедственном положении находились тогда силы Центральных держав. Поэтому, конечно же, войну – в принципе! – надо было продолжить до победного конца, благо он был уже рукой подать.
Продолжать войну, однако, стало совершенно невозможно при обвальном распаде армии и государства. Вот это-то и должен, обязан был видеть Гучков, ему следовало бы сообразить, что нельзя было сперва подписать губительный для вооруженных сил Приказ № 1, а после этого – директиву на генеральное наступление по всему фронту. Нельзя было всерьез рассчитывать на то, что ораторскими ухищрениями удастся удержать армию от стихийной самодемобилизации, вернуть в окопы разбегающуюся
15-миллионную орду разложенцев и мародеров.
Для всякого трезвого политика в тех условиях оставалось одно: махнуть рукой на обязательства перед союзниками и постараться выйти из войны с наименьшим ущербом для себя. Прекращение ставшего уже абсолютно бессмысленным кровопролития могло бы укрепить в народе зыбкий авторитет революционного правительства, но этого сделано не было. Окончательно утратив чувство реальности и упиваясь собственной элоквенцией, милюковцы продолжали трещать о проливах, о героической Бельгии и галльском мужестве защитников Вердена; да какое собачье дело было до всего этого русскому мужику в солдатской шинели, рвущемуся домой к разделу помещичьего добра!
Ни одна революция за обозримую историю человечества в конечном счете не оправдала жертв, каких стоила. Немногие положительные результаты, если таковые бывали, можно было гораздо безболезненнее получить мирным путем – терпеливо и шаг за шагом совершенствуя если не нравы общества (этого и впрямь слишком долго пришлось бы дожидаться), то хотя бы его законодательство. В оправдание свирепства Великой Французской революции до сих пор твердят, что зато она радикально покончила с феодализмом. Но это ведь не совсем верно – в 1789 году феодализм во Франции был de facto уже мертв, с ним (к худу ли, к добру) покончил сам ход истории. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать «Наказы» Cahiers, которые дворянство давало своим депутатам, посылая их на Генеральные штаты. Да, без революции торжествующий tiers еtat[9 - Третье сословие (фр.).] восторжествовал бы полувеком позднее; неужто ради этого ничтожного в исторических масштабах ускорения стоило ввергнуть страну в судороги террора и потом позволить корсиканскому мегаломану еще двадцать лет истреблять генофонд нации в бессмысленных военных авантюрах?
Историю нельзя подхлестывать, любая попытка нарушить естественный ее ход приводит к непредвидимым бедствиям. События 1917 года в России нагляднейшим образом подтвердили этот незыблемый закон. Монархический принцип у нас изжил себя к началу столетия, окончательно дискредитированный победоносцевской реакцией; кучка психопатов, одержимых манией цареубийства, сумела-таки перебросить стрелку, пустить Европу по другой колее – прямиком в век тоталитарных диктатур. Ведь не удайся тогда ее первомартовский подвиг, останься жив Освободитель, начни осуществляться реформа Лорис-Меликова, – это могло бы способствовать становлению у нас нормальной конституционной монархии, рано или поздно привело бы раздерганное русское общество к спасительному согласию. Но – судьба судила иначе. Бомба Игнатия Гриневицкого разнесла в прах все надежды на гражданский мир, Россия осталась с анахроничным, обреченным на гибель самодержавием абсолютистского толка. И с этого момента сама сделалась обреченной.
Marginalia: Теперь – в моем возрасте и с моим жизненным опытом – я, признаться, не считаю наследственную автократию такой уж плохой формой правления. Бывают хуже. Вольтер в одном из писем замечает, что если уж надо подчиняться, то лучше подчиниться льву, который от рождения сильнее тебя, нежели жить под властью двухсот крыс твоей же породы. Тут я вполне с ним согласен, но это мое частное мнение; не многие, боюсь, готовы его разделить. В демократическом обществе предпочтение отдано крысам хотя бы потому, что львом надо родиться, а в число двухсот избранных любой может – пусть теоретически – прогрызться сквозь толпу себе подобных. Были бы зубы.
Поскольку монархические настроения у нас к 1917 году окончательно иссякли, династия стала для страны ненужным балластом. В этом смысле, Февраль можно было бы приветствовать как естественное завершение определенного этапа истории; если бы революция ограничилась мирным провозглашением республики! Но она – в точном соответствии тому же закону недопустимости форсажа общественных процессов – вызвала из бездны такие чудовищные силы хаоса и разрушения, что обуздать их не смогла бы уже никакая самая просвещенная демократия.
Военные хотели сделать это в августе. Попытка корниловского cuartelazo[10 - Военного переворота (исп.).] была, разумеется, негодующе расценена прогрессивной общественностью (мною, в частности, и моими друзьями) как предательский удар в спину революции, посягновение на несозревшие еще плоды российской свободы. Хотя и показавшее явную свою неспособность вести страну, Временное правительство все же оставалось законным, и любая попытка свергнуть его заведомо осуждалась как узурпация власти.
Позднее, уже во время Ледяного похода, я ближе узнал Лавра Георгиевича (относительно, конечно, – насколько рядовой может «знать» генерала), и только тогда изменилось мое мнение об этом удивительном человеке и военачальнике. В совершенно ином свете увидел я задним числом и трагические события последней недели августа.
Горько подумать, насколько иным путем могла бы пойти история нашего века, пролития каких океанов крови избежал бы мир, сумей тогда главковерх[11 - Имеется ввиду Л. Г. Корнилов.] убрать со сцены политических импотентов и вовремя обезвредить гениального маньяка, вознамерившегося сделать Россию своим подопытным материалом. И жертв было бы не так много! Вместе с извлеченным из пресловутого шалаша гнуснецом расстреляли бы дюжину-другую его ближайших соратников, могло не обойтись без потерь подавление беспорядков в симпатизировавших большевикам частях петроградского гарнизона и кое-где на заводах; а рядовым партийцам едва ли грозили бы серьезные репрессалии – времена преследований за партийную принадлежность тогда еще не наступили.
Но допустим даже, что кровожадному Корнилову взбрело бы на ум переловить по России поголовно всех членов РКП(б), и всех до единого – к стенке (предположение абсурдное, но – как говорится – «в порядке бреда»). Это означало бы, что за радикальную санацию общества пришлось заплатить 240 тысяч жизней. Означало бы – гипотетически. А вот победа большевиков в реальной действительности, пережитой всеми нами, обошлась одной только России в полсотни миллионов жертв по самым осторожным подсчетам с 1917 по 1957 годы. За сорок лет. И это уже не гипотезы, это статистика.
50 000 000 насильственно исторгнутых из жизни – цифра, от которой и впрямь можно утратить веру в благостную разумность мироздания. Не зря теодицея остается едва ли не самой каверзной проблемой христианской философии, ибо в самом деле – как согласиться, примирить, оправдать? Поистине, неисповедимы пути Господни.
50 миллионов, треть населения Российской империи к началу Первой мировой войны. Все население сегодняшней Франции, или – на выбор – Великобритании. Или Италии. 50 миллионов россиян, погибших на фронтах Гражданской войны и в мясорубках Великой Отечественной, планомерно выморенных голодом, замороженных в тайге и тундре, запытанных в застенках ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ, мостивших своими костями котлованы всех великих строек социализма, усеявших безымянными братскими могилами шестую часть земной тверди от Воркуты до Экибастуза, от Магадана до Винницы. За что, Господи?
Однако же для чего-то этот невиданный в истории holocaust[12 - Массовое жертвоприношение (англ.).] был нужен. Не просто нужен – необходим. Самое убедительное тому доказательство – ужасающая закономерность провала всех попыток остановить большевиков на их кровавом пути к власти. Не имея массовой поддержки ни в образованном обществе, ни среди простого народа (исключая люмпен-пролетарские городские низы и самую деморализованную часть армии), философски и политически малограмотные, убогие в своей плоской сектантской ограниченности, они в кратчайший срок сумели подчинить всех своей воле, взнуздали революционную сарынь так, как не взнуздывал и Петр безгласное Московское царство. Объяснение тут одно: Ленин победил потому, что именно е г о победы, именно е г о прихода к власти требовала в тот момент историческая целесообразность.
Втянутый в страшную, тектонического размаха игру сил, о самом существовании которых не могло догадываться его тупое однополушарное мышление, он превратился в живую машину, исполнительный механизм – не таран даже, а чудовищный отбойный молот, предназначенный для одного: бить, бить и бить в намеченную точку, пока не рухнет любое препятствие. Так могла ли не победить партия, ведомая
т а к и м лидером?
Требования Истории могут быть жестоки, но бессмысленными их не назовешь. Цель, а следовательно и смысл, скрыто для современников присутствуют во всем совершающемся. Ради этого неведомого нам замысла были нужны – неизбежны – и победа Ленина в 1917 году, и ранняя смерть в 1924-м, развязавшая руки самому способному из его учеников.
Лишь сегодня, когда все эти сотрясавшие мир события давно в прошлом, начинаем мы угадывать их смысл. И то смутно, приблизительно, в самых общих очертаниях. А тогда и в голову никому не могло прийти!
Ленин – у тех, кто не возмущался им как «шпионом Вильгельма» – вызывал скорее веселое недоумение: как может этакое ничтожество претендовать на серьезную политическую роль. Провинциальный недоучка, горе-революционер, два десятка лет просидевший в безопасной эмиграции, одинаково плохо владеющий пером, так и словом, – хочет вести за собой массы? Когда он впервые после возвращения отважился выступить в Таврическом дворце, это был полный провал: солдатские депутаты – даже они! – едва не освистали картавого, нудно долдонившего что-то коротышку с невыразительной татарской физиономией. Да и соратники были не лучше – жирный, с бабьим голосом Апфельбаум, он же Зиновьев, обезьянообразный Радек (есть такие приматы, с распушонными на блудливой мордочке бакенбардами) – балаганные персонажи, кто мог принимать всерьез этих шутов… Несколькими годами позже, мюнхенские и берлинские интеллектуалы так же снисходительно пожимали плечами, слушая о факельных шествиях каких-то «нацистов».
Одно из немногих положений марксизма, с какими можно согласиться и сегодня, выражено формулой «бытие определяет сознание». В идеале, конечно, дело должно обстоять наоборот – желательно, чтобы бытие духовно-развитого человека определялось его сознанием, т. е. суммой взглядов и убеждений; но реально это бывает только с людьми особого склада – религиозными подвижниками, фанатиками какой-то идеи, шизофрениками. У людей же обычных сознание формируется преимущественно под прессом бытовых обстоятельств, тут Маркс был прав.
Мы, Болотовы, были самыми обычными людьми. Я говорил уже, как семейная трагедия повлияла на политические взгляды моего отца, повернула его к консерватизму; со мной процесс пошел еще дальше. Вскоре после смерти мамы ко мне пришел управдом (тогда, кажется, они назывались как-то иначе) и объявил, что «жилплощадь», к тому времени уже наполовину разграбленная разными конфискациями, теперь для нас двоих слишком велика и потому подлежит уплотнению. Протестовать было бесцельно, мы с Лизой перебрались в папин кабинет, в остальных комнатах поселились пролетарии. Возможно, сами по себе это были и неплохие люди, но вели они себя так, что уже через неделю я стал жалеть, зачем в дни октябрьских боев не лежал где-нибудь в юнкерской цепи с винтовкой в руках. Именно тогда у нас зародилась мысль о бегстве в «Вандею».
Конечно, это представляет меня не в лучшем свете. Даже в семнадцать лет, скажет иной, можно обладать более твердыми политическими убеждениями, а не шарахаться от революционного энтузиазма к готовности самому стрелять в революционеров; и уж вовсе безнравственно оправдывать такую метаморфозу тем, что разграбили квартиру и подселили невоспитанных соседей…
Так оно и выглядит, но о «разграблении» я упомянул, не имея в виду пропажу каких-то материальных ценностей. Их, кстати, было не много, семья наша обладала весьма средним (по тем временам) достатком, так что искать у нас фамильные бриллианты смысла не было. Была хорошая библиотека, был неплохой кабинетный рояль, у мамы стояла горка павловского ампира с разными фарфоровыми bibеlots[13 - Безделушками (фр.).] – судя по тому, что детям разрешалось ими играть, вряд ли это был Севр или хотя бы Майссен. Вот, собственно, и все. Столовое серебро – очень старое, помню, со сточенными до кинжальной узости ножами и истончившимися в лепесток ложками – в то время особенной ценностью не считалось. Его, правда, конфисковали в первую очередь. Потом забрали для какого-то клуба рояль, книги тоже увезли – охапками швыряли в кузов стоявшего под окном грузовика.
Так что разграбление я имел в виду не столько материальное, сколько духовное. Тот же рояль, скажем, мне лично был не нужен – сам я не играл и мало интересовался музыкой, но когда его выносили, мне стоило труда удержать слезы. Не о стоимости инструмента я тогда думал, не о том, сколько и чего можно было бы на него выменять; я просто помнил, как мама играла нам вечерами.
Поэтому все эти конфискации и реквизиции были для меня прежде всего приметами наступившей эпохи личного бесправия. Избранный тобою образ жизни, привычки, вкусы, неприкосновенность имущества и жилища, возможность заниматься тем или иным делом, свободно общаться с приятными людьми и избегать неприятных, – словом, все то, что является естественным правом каждого в любом цивилизованном обществе, – все это мгновенно исчезло, превратилось в фикцию, беззащитный человек остался один на один с произволом, какого Россия не знала со времен опричнины.
Впрочем, можно ли сравнивать размах? Если тогда отдавалась на поток и разграбление усадьба того или иного опального боярина, то в наше время дорвавшийся до власти класс-гегемон получил практически бесконтрольное право казнить и миловать всех, кто имел несчастье е этому классу не принадлежать.
Впрочем, отнюдь не все «ci-devants»[14 - Из бывших (фр.).] в равной мере испытали на себе торжество революционной справедливости. Кому как повезло – судьба есть судьба. Одни быстро освоили искусство того, что Питирим Сорокин называл captatio benevolentiae[15 - Домогательство милостей (лат.).] и устроились при новых владыках совсем неплохо, менее ловкие затаились этакими жучками и просидели с поджатыми лапками до середины тридцатых годов, когда уже перестала спасать самая изощренная мимикрия. Но участь большей части оставшейся под большевиками интеллигенции, непрактичной, не умеющей приспосабливаться к условиям нового звериного существования, была трагичной. А применительно к детям – ужасной.
Я на старости лет становлюсь, наверное, сантиментален («зол и сантиментален» – как папенька Карамазов); вдоволь навидавшись всего, что в ХХ веке мог увидеть человек, прошедший две войны, отечественные и чужеземные тюрьмы и лагеря, я до сих пор не могу без содрогания и кощунственных мыслей вспоминать о сиротах, сотнями тысяч скитавшихся по России в то проклятое послеоктябрьское десятилетие. Это было поистине бесклассовое общество, где в братском единении голодали, обучались пороку и становились преступниками, болели и гибли как выброшенные на свалку щенята – и дети из вымерших от тифа и голода деревень, и дворянские отпрыски, начинавшие жизнь с боннами и гувернерами, и все те, чьи отцы были повешены белыми или расстреляны в подвалах чека…
Потом стали их отлавливать, размещать по приютам и макаренковским «деткоммунам». Делалось это под личным контролем самого Дзержинского – то ли совесть заела (сомнительно, впрочем), то ли потянуло на особый вид душевной услады, аристократически, по-шляхетски утонченной: выведя в расход отцов, трогательно заботиться о детях. А может и дань традиции – рассказывают же, что Николай Павлович, назначив генерала Бенкендорфа шефом жандармов и начальником III отделения собственной Его Величества канцелярии, вручил ему символический платочек – «утирать слезы вдов и сирот». Впрочем, не будем злословить. Каковы бы ни были мотивы, за это Железному Феликсу спасибо, дело-то само по себе доброе и нужное. В последний мой студенческий семестр, зимой 1928 года, я часто видел, как по утрам милиция извлекала беспризорников из-под асфальтовых котлов, где они ночевали в теплой с вечера золе.
Вот, опять отвлекся. Я ведь начал с возражения на упрек (воображаемого оппонента) в корыстных мотивах моей политической метаморфозы. Революционный мой энтузиазм к тому времени поостыл, но я еще свято верил в правоту тех, кто разрушили империю Романовых и провозгласили Российскую республику. Поэтому не против вчерашних единомышленников решил я поднять оружие, когда стал собираться на Дон, а против контрреволюционеров, засланных к нам кайзером, чтобы немецкими сапогами растоптать завоеванную в Феврале свободу.
Что цели Ленина имели мало общего с теми, которые преследовал финансировавший его германский генштаб, я – естественно – знать тогда не мог. Но что отчетливо понимал уже тогда (и в чем не ошибся), это что свобода большевикам не нужна, и именно поэтому они намерены восстановить самодержавие – только не императорское, а комиссарское. Второй вариант, как скоро выяснилось, оказался несоизмеримо хуже.
Ну что ж, рискуя уподобиться Катону с его маниакальным «ceterum censeo»[16 - «А кроме того, полагаю» (лат.).], повторю еще раз: всякая социальная революция заведомо преступна. Насильственное изменение государственного строя не может быть оправдано никакими пороками существующего режима, так как бедствия, неизбежно сопровождающие такого рода переворот, всегда оказываются намного страшнее причиненных прежней властью.
* * *
В начале этого повествования, обуянный авторской гордыней высказался я в том смысле, что меня де не волнует проблема будущего читателя: дойдет ли до публики мой опус, или не дойдет, не все ли равно. Однако, втягиваясь в работу все глубже и глубже (это ведь засасывает) начинаешь думать, что нет – все-таки не совсем «все равно». В СССР, мне рассказывали, из-за нового (в связи с Чехословакией) зажима литературы многие писатели сейчас работают «в стол», т. е. как бы впрок, не рассчитывая на скорую публикацию. Для профессионального литератора, живущего гонорарами, это создает, вероятно, известные трудности материального характера; но ему все же легче, чем мне, в том смысле, что он ощущает себя мастером, уверен в качестве накапливаемой в столе продукции и знает, что рано или поздно его читать будут.
Я – не уверен. Я не знаю, пишу ли на потребу людям, или для собственного – чуть было не написал «удовольствия». Правильнее будет – из внутренней потребности высказаться. Так сказать, монолог на ветер. Или глас бормочущего в пустыне. Какое уж тут удовольствие.
Итак, остаются все же историки. Льщу себя надеждой, что именно мое свидетельство – при всех его очевидных и скрытых изъянах – могло бы представлять для исследователя нашей эпохи некоторую дополнительную ценность как исходящее от человека, одновременно принадлежавшего и не принадлежавшего к двум фракциям, на которые перегонный куб Гражданской войны расщепил русское общество. Легкая, сравнительно малочисленная, быстро улетучилась в изгнание, а более тяжелая стала выпадать в донные отложения. Среди последних оказался и я – этаким молодым, но уже прошедшим огонь и медные трубы протеем. Протея я имею в виду мифологического, а не того, что зоологи относят к семейству хвостатых земноводных.
Дело в том, что между 1920 и 1942 годами мне пришлось жить под чужой фамилией; справедливо ли считать этот отрезок времени периодом внутренней эмиграции? И да, и нет. Быть «внутренним эмигрантом» легче было тому, кто занимался искусством; некоторые писатели – Пастернак, Пришвин, отчасти Паустовский – принадлежали, похоже, к этому типу. Человеку же технической профессии, повседневно связанному с обыденной реальностью советского быта, заслониться от него нечем, ему остается одно: соорудить некое подобие tour d'ivoire[17 - Башня из слоновой кости (фр.).] в собственном сознании. Но в таком убежище долго не высидишь, поэтому возникает определенная двойственность восприятия окружающего – видишь его и как непосредственный участник, и как сторонний наблюдатель извне (т. е. как раз наоборот, «изнутри себя»).
Безусловно, эта двойственность восприятия затрудняет жизнь, ибо отнюдь не способствует достижению душевного мира. Но она зато позволяет оценивать окружающее с более широких позиций. Известно, что объемное видение предмета достигается тем, что рассматриваешь его обоими глазами; зажмурьте один, и глубина сразу исчезнет. Чтобы получить стереофото, требуется особая камера с двумя разнесенными на некоторое расстояние объективами. Нужны, стало быть, две точки зрения, если не хочешь довольствоваться плоской и невыразительной картиной, имеющей лишь приблизительное сходство с реальностью.
У меня эти две точки зрения были. Одна – взгляд человека, участвовавшего в вооруженной борьбе против коммунистической власти и постоянно ощущающего свою чужеродность этому «новому миру» с его стадной нетерпимостью к инакомыслию, агрессивным бескультурьем, принудительным опрощением всего уклада жизни. Какие чувства могло это во мне вызывать?
Но была у меня – не могла не быть! – и совершенно другая точка зрения. Формально я ведь вошел в эту новую жизнь, начал к ней приспосабливаться, как бы она ни была уродлива, в институте у меня уже появились если не друзья, то во всяком случае приятели (и, естественно, приятельницы – но тех я побаивался). При всей моей враждебности пролетарскому государству, я не испытывал ее к стране и людям. Даже студенческие наши комсомольские вожаки, с которыми volens nolens приходилось общаться и иногда осторожно поспорить «о политике», никаких враждебных чувств во мне не вызывали – скорее жалость за их слепую и самоуверенную ограниченность. Трое в нашей группе были вчерашними красноармейцами, один воевал на Южном фронте, но я и в них не видел врагов. Дело прошлое. Врагом оставалось государство, однако даже по отношению к нему я уже начинал испытывать двойственное чувство: злорадство при виде того, как безобразно, вкривь и вкось все делается, – и нетерпеливое желание самому приложить руки, чтобы хоть что-то стало налаживаться.
А надежд на то, что жизнь можно наладить и при советской власти, было мало. У меня, во всяком случае. Уже начинали свертывать нэп – наивных мавров, сделавших свое дело, объявили злейшими врагами нового строя и, обобрав до нитки, высылали для перевоспитания трудом на лесоповале. Не говоря о вполне большевистской подлости этого маневра (разрешить частное предпринимательство, а потом за него же и карать), он был еще и на редкость недальновидным: истреблялись лучшие кадры хозяйственников, самые деловые, самые предприимчивые, сумевшие за пару лет вывести страну из голодной разрухи военного коммунизма.
Правда, эти люди были живучи, часть их уцелела и кое-кто сделал успешную карьеру в системе государственной экономики. Был, к примеру, такой Френкель – Солженицын упоминает о нем в «Архипелаге»; сосланный в описываемое время на Соловки, он уже тремя годами позже стал большим начальником на ББК (там-то я и видел его, и слышал о нем самые фантастические легенды). Но в массе своей «нэпманы» были раздавлены или, во всяком случае запуганы настолько, что ждать потом от них смелой, инициативной хозяйственной деятельности уже не приходилось – отучили на всю жизнь. Не исключено, что именно где-то здесь генезис феноменальной советской бездарности в сфере экономики – бездарности многолетней, наследственной и традиционной, которая и сегодня так успешно ведет весь соцлагерь к неотвратимому краху его интегрированного народного хозяйства.