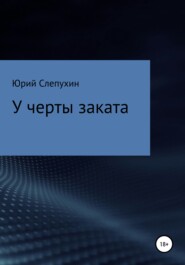По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Южный крест
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот и злюсь, и злюсь, и еще буду злиться! А тебе-то что? Что я вообще для тебя? Ничто! Абсолютный нуль! Ты даже не видишь во мне женщину!
– Евдокия, да побойся ты бога, – изумленно сказал Полунин.
– Конечно!! – кричала та чуть ли уже не со слезами. – Там в пансионе ты лицемерно требовал – «я запру дверь, я запру дверь!». Изображал une passion ardente[28 - Пламенную страсть (фр.).], чуть мне ухо не откусил! А здесь в отеле мы были одни на всём этаже и ты преспокойно сидел, как один тараканский идол! А потом ужин отправился заказывать! Чудовище!
– Во-первых, Евдокия, идол был тьмутараканский, – терпеливо поправил Полунин. – Во-вторых, ты сама сказала, что хочешь идти гулять. Я уж не говорю про этот твой обет…
– Ах, мсье испугался моего обета! Какое неожиданное благочестие! Какое тебе дело до обетов, ты ведь атей, хуже всякого язычника! Да если бы ты был настоящим мужчиной, ты бы возмутился, ты бы заставил меня нарушить этот обет! А я, кстати, была бы вовсе не виновата, потому что когда уступаешь грубой силе – это простительно. Даже со святыми бывали такие случаи! Но тебе, конечно, все равно – гулять так гулять…
– Ну давай вернемся, – предложил он, с трудом удерживаясь от смеха. – Вернемся, и я заставлю тебя нарушить обет.
– Шиш я теперь вернусь! Залезу на тот холм и буду сидеть до самой ночи!
Он благоразумно промолчал. Когда на Дуняшу накатывало, лучше было не спорить; ее «кризы», как она это называла, обычно бывали непродолжительны.
И действительно, пока они дошли до холма, агрессивная фаза сменилась покаянной. Здесь наверху как-то еще полнее ощущалась окружившая их пустынность, – железная дорога и поселок остались за спиною, до самого горизонта впереди лежала ровная, точно застывшее травяное море, бурая осенняя степь. Полунин бросил пиджак на сухой растрескавшийся суглинок, они сели. Несколько минут Дуняша молчала, обхватив руками колени и неподвижно глядя на закат, потом виноватым движением потерлась головой о плечо Полунина.
– Не сердись, – шепнула она. – Пожалуйста, прости меня… Я знаю, что гадкая и что тебя мучаю, но ты не обращай внимания, а просто в следующий раз, как только я начну опять беситься, возьми и отшлепай меня хорошенько. Правда, так и сделай…
Он повернул голову и с удивлением увидел поблескивающую дорожку слезы на ее щеке.
– Да что ты, Дуня, я не сержусь вовсе, откуда ты взяла! Ты из-за этого плачешь?
Она отрицательно замотала головой, утирая глаза тыльной стороной руки.
– Нет, нет, это так… глупости. Вообще я степь не могу видеть без того, чтобы не разреветься… как дура. Я сейчас… успокоюсь, погоди…
Она помолчала еще, потом спросила:
– Ты Бунина стихи любишь?
– Стихи? – Полунин подумал. – Знаешь, я их, пожалуй, и не читал. Основская давала мне «Жизнь Арсеньева», это понравилось, а стихов его я не знаю.
– А мне вот сейчас вспомнилось… «Ненастный день. Дорога прихотливо уходит вдаль. Кругом все степь да степь. Шумит трава дремотно и лениво, немых могил сторожевая цепь среди хлебов загадочно синеет, кричат орлы, пустынный ветер веет в задумчивых, тоскующих полях, да тень от туч кочующих темнеет…» Ты знаешь, для меня нет ничего прекраснее – даже у Пушкина…
– Да, это хорошие стихи. Бунин ведь где-то у вас живет?
– Жил! Он в позапрошлом году умер, а вообще жил в Париже. Боже мой, кем нужно быть, чтобы суметь написать такое – «кричат орлы… пустынный ветер веет… в задумчивых, тоскующих полях…» Странно, океан меня не трогает совершенно, и горы тоже, но в степи я себя чувствую как в церкви, – негромко говорила Дуняша. – Не знаю почему… Хотя я ведь на четверть татарка, я тебе говорила?
– Нет, впервые слышу. Татарка?
– Ага. Бабушка была самая настоящая, откуда-то из-под Казани… Я видела старое фото – красавица феноменальная, grand-pere[29 - Дед (фр.).] влюбился без памяти и украл ее из этого – как это называют – улус, что ли? Воображаешь, скандал, он был там вторым человеком после губернатора…
Полунин взял в ладони ее голову и повернул к себе.
– А знаешь, в тебе и впрямь есть что-то татарское, – он улыбнулся. – Раньше я не замечал. Да, конечно, скулы, и разрез глаз такой удлиненный… Салям, Евдокия-ханум!
Дуняша мигом скрестила ноги по-турецки.
– Салям, эфенди, салям, – ответила она, кланяясь и прикладывая ладонь ко лбу и груди. – Только не говори больше этого слова: оно слишком похоже на «салями», а я уже хочу есть как одна каннибалка. Между прочим, Аргентину я полюбила именно из-за пампы. Во Франции разве такое увидишь! Конечно, там всё – как это сказать – живописно, да? Но настоящей натюр там нет. Впрочем, ты же видел Францию!
– Да, – Полунин кивнул. – Кое-что видел.
– Я не говорю о Париже, – продолжала она, – это вне всякого. Ты ведь в Париже был? Я думаю, нет ни одного туриста, который не побывал бы в Париже…
Полунин молча улыбнулся. Как обстоит дело с туристами, он не знал, – ему самому, как и другим бойцам отряда «Бертран Дюгеклен», довелось ворваться в Париж вместе с танкистами Леклерка, когда еще не капитулировал немецкий гарнизон и снайперы постреливали с крыш в самом центре – на авеню Клебер, на бульваре Осман… Впечатление, надо сказать, осталось довольно сумбурное: августовский зной, бензиново-пороховой чад, то пустая улица, выметенная пулеметными очередями, то – сразу за углом – беснующаяся от восторга толпа, трехцветные флаги из окон, растрепанные девчонки на капотах джипов…
Собственно, из всей Франции лучше всего запомнилась ему Нормандия, ее сырые пастбища, изгороди, яблоневые сады. Отряд маки, отбивший у немцев небольшую группу советских военнопленных, действовал южнее Руана, в районе Лувьер – Лизьё; летом сорок четвертого года, после высадки союзников, макизары стали отходить в глубь страны. Пересечь линию фронта, хотя в строгом смысле слова ее не существовало, им так и не удалось, а позднее командование ФФИ поставило всем отрядам задачу – по возможности оставаться в немецких тылах, уничтожая связь и действуя на линиях коммуникаций. Так они и делали – резали провода, рвали, где удавалось, мосты, нападали на отдельные колонны. По-настоящему больших дел не было, но все-таки… Только под Шартром их наконец догнали танки с белой звездой и лотарингским крестом – эмблемой «Сражающейся Франции»; оттуда они и рванули вместе на Париж – через Эпернон, Рамбуйе, Версаль…
– …впрочем, должна сказать, – продолжала болтать Дуняша, – что, хотя я там и родилась, сердцу он ничего не говорит. Мне, по крайней мере. О, это все прекрасно – история на каждом шагу и все такое, но это все слишком… далекое для нас, понимаешь? Что мне их Клюни или Сент-Шапель, это прекрасно, но это не трогает. А вот простая степь меня трогает. Там, где ты родился, хорошая степь?
– Нет, я из Ленинграда, там степей нет…
– Странно. Я думала, Россия – это сплошная степь!
– Ну что ты. У нас только южная часть степная.
– Но ты там был, да? Ты видел настоящую-настоящую степь?
Полунин помолчал, грызя травинку.
– Я там воевал, в сорок первом, – ответил он нехотя.
– Это там тебя ранили?
– Да, там…
– Бе-едный, – пропела Дуняша. Она расстегнула его рубашку и, быстро нагнувшись, поцеловала неровно стянутый багровый рубец шрама. – Бедный мой, как тебя неаккуратно зашили.
Он похлопал ее по плечу, отстранил от себя и застегнулся.
– Меня, Дуня, зашивали в лагере. Штопальной иглой, там было не до аккуратности шва. А сейчас хватит об этом, лучше почитай стихи.
– Какие?
– Какие хочешь. Что вспомнится, то и почитай.
Дуняша помолчала.
– Вот слушай: «Девятый век у Северской земли… стоит печаль о мире и свободе. И лебеди не плещут. И вдали… княгиня безутешная не бродит. О Днепр, о солнце, кто вас позовет… повечеру кукушкою печальной… теперь, когда голубоватый лед все затянул, и рог не слышен дальний… И только ветер над зубцами стен… взметает снег и стонет на просторе. Как будто Игорь вспоминает плен у синего… разбойничьего моря…»[30 - Стихи Георгия Адамовича.]* Господи, что это сегодня… со мной…
– Успокойся, Дуня, не надо.
– Не буду, милый, прости, – Дуняша шмыгнула носом. – «Княгиня безутешная» – это про Ярославну, знаешь?
– Да, я понял.
– Почему я не могла быть твоей Ярославной, когда ты лежал там раненный, в сорок первом? Впрочем, я все равно опоздала, мне тогда было всего одиннадцать…