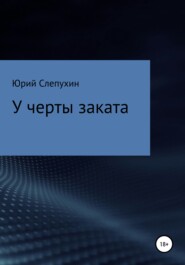По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ничего кроме надежды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Много хлопот доставляли сектанты из шестой комнаты. Они отказывались ходить в баню, отказывались носить номерные жетоны, отказывались обращаться к врачу в случаях заболеваний, иногда отказывались даже работать – у них был какой-то свой особенный календарь, где определенные дни полагалось проводить в посте и молитве. Никакие попытки договориться ни к чему не приводили – Таня понимала, что кончится это плохо, но была совершенно бессильна что-нибудь сделать.
С середины декабря участились воздушные тревоги. Теперь почти каждый вечер, около десяти часов, по всей округе начинали орать сирены. Одна, какая-то особенно мощная, была установлена на крыше соседнего здания: включаясь, она издавала вначале хриплый, необычайно низкого тона бычий рев, который повышался по мере того, как набирал обороты ее диск. Раскрутившись, сирена вопила пронзительно и исступленно, так что звенели оконные стекла, потом стихала, потом опять набирала силу. От одного этого воя можно было рехнуться.
Во время воздушной тревоги населению лагеря полагалось находиться в подвале, приспособленном под бомбоубежище; сигнал отбоя давали обычно уже за полночь, и эти три-четыре часа страха и ожидания в плохо вентилируемом, до отказа набитом бункере изматывали людей больше, чем самая тяжелая работа.
Самолеты пролетали, не сбрасывая бомбы. Их цели лежали пока восточнее – Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин. Но этого никто не знал заранее, и каждую ночь можно было ожидать, что бомбы снова посыплются на Рур, как весной этого года. О майских бомбежках лагерные старожилы вспоминали с ужасом, да Таня и сама уже несколько раз побывала в Эссене, своими глазами видела целые кварталы, превращенные в щебень взрывами «воздушных торпед», дотла выжженные фосфором и термитом.
Рур сильно пострадал, но он еще работал, еще дымили бесчисленные трубы, каждую ночь небо полыхало багровыми заревами мартенов, выдающих плавку за плавкой, круглосуточно вращались колеса шахтных подъемников, работали прокатные, кузнечно-прессовые, инструментальные, сборочные цеха бесчисленных заводов. Но что все это было обречено, понимал всякий. Вопрос был лишь в сроках.
Таня тоже это понимала, но почему-то не испытывала особого страха. Два года назад (неужели прошло только два года?), дома, после той памятной бомбежки, ее бросало в дрожь от одного звука летящего самолета. А сейчас страха почти не было, хотя опасность возросла стократно. Та бомбежка покажется детской забавой в сравнении с тем, что произойдет здесь; в лагере были люди из Гамбурга – его этим летом сожгли за одну неделю, погибших было больше сорока тысяч. Таня думала об этом почти равнодушно. Чему быть – того не миновать.
В один из вечеров, когда тревога застала ее за работой в лагерной канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам; Таня выключила свет, подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату. Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла долго, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора – она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать; размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались влево и вправо, перекрещивались, сходились в пучки и расходились. Стало светлее, на фоне их призрачно колеблющегося зарева обозначались угольно-черные ломаные очертания крыш.
Где-то далеко впереди уже мерцали в туманной мгле тусклые короткие вспышки – это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена; вспышки приближались, стал слышен далекий еще грохот орудий и почти одновременно – гул самолетов.
Таня почувствовала инстинктивное желание бежать и отступила от окна, но заставила себя остаться на месте. Еще никогда в жизни не слышала она ничего подобного этому чудовищному звуку, заполнившему, казалось, все небо от горизонта до горизонта; тысячи моторов мрачно и торжествующе ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и словно кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба расплескивая кровавые зарницы, с резким железным грохотом ударили пушки больших калибров, установленные в окрестностях, у Гельзенкирхена и Ваттеншайда. А англичане летели дальше – теперь уже было ясно, что и в эту ночь на их штурманских картах обозначены другие цели.
Захваченная жутким спектаклем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась дверь. Когда вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности.
– Почему не в бункере?! – крикнул он, подойдя.
– Там очень душно! – ответила Таня, стараясь перекричать всю эту вакханалию звуков. – Я думаю, здесь они не будут бросать! Летят дальше!
Комендант закрыл окно и опустил штору. В комнате стало потише. Не включая света, он присел на край стола и закурил.
– Да, здесь не будут, – сказал он. – Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше – в направлении Лейпциг, Галле.
– Уже было сообщение?
– Только что – «тяжелый террористический налет». Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение?
– Нет, – сказала Таня, помолчав. – Я сама была однажды под бомбежкой, правда, не такой тяжелой.
– Где это было?
– У меня дома, в России.
– Тогда тем более! Своими глазами видишь, как приходит справедливое возмездие, не правда ли?
– Может быть, но ведь умирают не те, кто виноват…
– О, я знаю, у тебя всегда готов ответ. И кто же виноват, по-твоему?
– Я думаю, – убежденно ответила Таня, – что в этой войне виноваты масоны, евреи, всякие плутократы, я хочу сказать.
– Ах, плутократы! Ну-ну. Но может быть, и нам – немцам тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало пространства?
Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, ожидая ответа. Разговор становился опасным.
– Я не знаю, – сказала Таня, пожав плечами. – Разрешите, я пойду вниз?
– Подожди-ка, – сказал комендант. – Ты мне не ответила! Так как насчет жизненного пространства? По-твоему, это выдуманная проблема для нас, немцев?
– Но ведь таким путем ее все равно не решить, правда? Жизненного пространства у вас все равно не прибавится, я думаю.
Комендант усмехнулся.
– Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем войну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал! Это чепуха – все эти разговоры о виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов, но в этой стране войны хотел весь народ. Слышишь? Весь без исключения! Партия никогда не скрывала своей программы, она выступила с нею совершенно открыто, она открыто готовила немцев к войне за жизненное пространство. И немцы с радостью готовились! Так что бремя ответственности за случившееся несут все. В том числе и те, кто в эти минуты сгорает живьем от английского фосфора. Единственно, кто действительно не виноват, это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами, страшнее нет ничего. Но может быть, им все-таки лучше умереть сейчас, чем потом пережить то, на что Германия себя обрекла… Ну что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами? Забудь все, что я наговорил, проверь маскировку и ступай в бункер, нечего здесь торчать. Они могут сбросить остаток бомб на обратном пути.
На немецкое Рождество окончательно установилась зима. Выпал снег, стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере «Шарнхорст» шла без изменений – каждое утро люди вставали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки с эрзац-кофе, резали хлеб -буханку на четверых, раздавали «цулагу»[12 - Zulage – дополнительный паек (нем.).] – иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса – каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все, что можно, лагерники выходили на аппель-плац, где в морозном тумане тускло светились синие фонари вдоль опутанного колючей проволокой забора. До вечера здание затихало, только штубендинсты[13 - Stubendienst – дневальный (нем.).] мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим тоже входило в Танины обязанности, но она своим правом надзора не злоупотребляла, и днем ей иногда удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать что придется. В немецких журналах недостатка не было – почти каждый вечер кто-то из обитателей седьмой комнаты приносил какой-нибудь «Иллюстрирте», кельнский, или берлинский, или мюнхенский. Было в комнате и несколько зачитанных до дыр книг, прихваченных кем-то еще из дома, – «Боги жаждут», «Разгром», несколько старых русских романов и даже изданная в Риге приключенческая повесть некоего Солоневича, густо-антисоветская, но довольно занятно написанная. Комендант против чтения вообще не возражал; он только предупредил Таню, что, если в лагере будет обнаружена хоть одна советская книга, то ей – переводчице – определенно несдобровать. А то, что лагерники читают Золя, он далее одобрил: «Разгром», по его мнению, надолго прославил прусскую победу под Седаном.
– Содержащиеся в книге выпады против немцев следует отнести за счет шовинистических настроений автора, – разъяснил он. – Было бы странно, напиши француз иначе.
Когда Таня спросила, относится ли к числу запрещенных авторов Анатоль Франс, он поморщился.
– Вообще – безусловно, – сказал он. – Но «Боги» пусть остаются, там ярко изображены преступления якобинской революции.
– А почему вообще Франс у вас запрещен?
– Немецкому мировоззрению чужд его ядовитый скептицизм, поэтому нам Франс не нужен.
– Простите, я не поняла, – сказала Таня. – Зачем запрещать то, что чуждо? Если вы перед собакой положите охапку сена, то излишне говорить ей «нельзя», потому что она и без всякого запрещения его не тронет. Другое дело, если это кусок мяса, которого она давно не ела…
– Послушай-ка, переводчица, – сказал комендант. – Я давно заметил, что язычок у тебя хорошо подвешен, но он гораздо длиннее, чем рекомендуется в наше время. Поэтому держи его за зубами, если не хочешь разделить печальную участь твоей предшественницы…
Подошел Новый год. Вечером тридцать первого лагерники получили «праздничный паек» – дополнительный хлеб, колбасу, семейным с маленькими детьми выдали по три штучки какого-то печенья на сахарине; гемюза, привезенная в этот вечер, была вполне съедобна и даже попахивала мясом – очевидно, ее заправили бульонным экстрактом. После ужина в бывшем актовом зале, убранном еловыми ветвями и гирляндами бумажных флажков, начался небольшой концерт силами лагерной самодеятельности – в программе были украинские и русские народные песни, несколько сольных номеров на губной гармонике, фокусы, показанные бывшим иллюзионистом из какого-то периферийного цирка, подвизающимся сейчас в «шарашкиной команде».
Комендант, против обыкновения принаряженный, в черном костюме с партийным значком на лацкане, сидел в первом ряду рядом с Таней, после каждого номера аплодировал и удовлетворенно говорил: «Sch?n, sch?n»[14 - Прекрасно, прекрасно (нем.).]. Когда концерт окончился, он поднялся на эстраду, поздравил лагерников с наступающим Новым годом и пожелал всем мира и победы. Чья победа имелась в виду, Фишер не уточнил.
– Зайди потом в канцелярию, – сказал он Тане, когда люди стали расходиться по комнатам.
Когда она зашла в канцелярию, комендант сидел за своим столом под портретом Гитлера, на столе стояла бутылка, две эмалированные кружки. Занят был Фишер обычным делом, за которым Таня часто его заставала: препарировал очередную порцию принесенных лагерниками окурков. Найти на тротуаре окурок было большой удачей, за ними охотились и немцы из цивильных, но у военных бросить не до конца докуренную сигарету считалось особым шиком, потому улов – хотя и небольшой – был, и некурящие либо выменивали добычу, либо сдавали коменданту. К регулярным своим поставщикам он был особенно благосклонен и обычно назначал на более легкие работы, связанные с пребыванием на свежем воздухе.
Внимательно исследовав окурок, Фишер вскрывал его лезвием безопасной бритвы, осторожно отделял обгоревшие частицы начинки, а сохранившийся табак так же бережно ссыпал в баночку.
– Да, да, это не очень гигиенично, согласен, – сказал он, заметив, с каким отвращением Таня наблюдает за его работой. – Но если куришь в трубке, ничего страшного – при сгорании все обеззараживается… Ладно, доделаю завтра, на сегодня хватит.
Убрав недорезанные окурки в ящик стола, он сжег в пепельнице оставшиеся от выпотрошенных обрывки папиросной бумаги, тщательно вымыл руки и вернулся к столу.
– А теперь можно и попраздновать, – он указал на бутылку и уважительно поднял палец: – Шнапс! Настоящий шнапс, понимаешь? Большая ценность по нынешним героическим временам. Сейчас мы с тобой выпьем за Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год, но сначала я хочу сделать тебе маленький презент…
Он полез в карман и достал флакончик духов.
– Держи, переводчица, – сказал он, протягивая ей подарок. – Здесь, в лагере, тебе не до всяких таких штучек-дрючек, но восприми это символически – как залог лучшего будущего. Духи, конечно, дрянь, эрзац какой-нибудь, я не эсэс-группенфюрер, чтобы дарить парижские. Зато от души!
– Спасибо, господин Фишер, я искренне тронута.
– И заметь – без всякой задней мысли. Я ведь не пытался склонить тебя к сожительству?