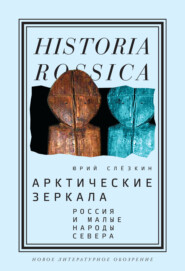По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом правительства. Сага о русской революции. Книга третья. Под следствием
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Получил твое ужасное письмо.
Мое письмо кончалось: «обнимаю».
Твое письмо кончается: «негодяем».
После этого что же писать?
Но я хотел бы устранить одно политическое недоразумение.
Я писал письмо личного характера (о чем теперь очень сожалею). В тяжком душевном состоянии; затравленный, я писал просто к человеку большому; я сходил с ума по поводу одной только мысли, что может случиться, что кто-то поверит в мою виновность[56 - «Письма Бухарина».].
Бухарин совершил ту же ошибку, которую совершил Осинский, когда в январе 1928 года попытался отделить Сталина вождя от Сталина человека. Руководство партией не та работа, с которой возвращаются домой.
Через несколько дней Бухарина вызвали в ЦК на очную ставку с его другом детства (и отцом главного соперника за руку Анны Лариной) Григорием Сокольниковым. Сокольников после ареста начал давать показания о связях правых с Каменевым и Зиновьевым. Каганович, который присутствовал на очной ставке, писал в Сочи Сталину: «Бухарин после ухода Сокольникова пустил слезу и все просил ему верить. У меня осталось впечатление, что, может быть, они и не поддерживали прямой организационной связи с троцкистско-зиновьевским блоком, но в 32–33, а может быть, и в последующих годах они были осведомлены о троцкистских делах… Во всяком случае, правую подпольную организацию надо искать, она есть. Я думаю, что роль Рыкова, Бухарина и Томского еще выявится»[57 - Сойма, Запрещенный Сталин, с. 186.].
Вскоре прокуратура объявила, что не располагает достаточными доказательствами для возбуждения дела против Рыкова и Бухарина. Следствие по делу Радека продолжалось. По воспоминаниям Лариной, Радек позвонил Бухарину и попросил о встрече (они были соседями по даче). Бухарин ответил отказом, но Радек пришел, заверил Бухарина в своей невиновности и попросил написать Сталину. «Перед уходом Радек вновь повторил: «Николай! Верь мне – верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен!» Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошел ближе к Н. И., простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты». Через несколько дней Бухарин написал Сталину:
Ко мне прибежала жена Радека и сообщила, что он арестован.
Умоляю и от себя, и от него только об одном, чтобы дело прошло через твои руки. Просила сказать, что Радек готов отдать последнюю каплю крови за нашу страну.
Я тоже ошеломлен этим неожиданным событием и – несмотря на всяческое «но», на излишнюю доверчивость к людям, на ошибки в этом отношении – считаю себя просто обязанным партийной совестью сказать, что мои впечатления от Радека (по большим вопросам, а не пустяковым) только положительны. Может, я ошибаюсь. Но все внутренние голоса моей души говорят, что я обязан тебе об этом написать. Какое страшное дело![58 - Хаустов, Самуэльсон, Сталин, НКВД и репрессии, с. 93; Ларина, Незабываемое, с. 305, 310–311; «У меня одна надежда на тебя», Исторический архив (2001, № 3), с. 69.]
Поручителями за искренность Радека были внутренние голоса души Бухарина. Поручителем за искренность Бухарина был Сталин, которого Бухарин считал старым другом по прозвищу Коба и одновременно «персональным воплощением ума и воли партии». «Только ты можешь меня вылечить, – писал он 24 сентября. – Я не просил о приеме до конца следствия, так как считал, что это политически тебе неудобно. Но теперь я еще раз просто всем существом прошу тебя об этом. Не откажи. Допроси меня, выверни всю шкуру, но поставь такую точку над i, чтоб никто никогда не смел меня лягать и отравлять жизнь, загоняя на Канатчикову дачу»[59 - «У меня одна надежда на тебя», с. 70.].
Двуединство Сталин/Коба строилось по образцу пар Ленин/Ульянов и Ленин/Ильич, в создании которых участвовал Бухарин. По версии Кольцова, Ульянов, «который берег окружающих, был с ними заботлив, как отец, ласков, как брат, прост и весел, как друг», был неотделим от Ленина, «принесшего неслыханные беспокойства земному шару» и «возглавившего собой самый страшный, самый потрясающий кровавый бой против угнетения, темноты, отсталости и суеверия». Со временем Ильич сменил Ульянова, но доктрина не изменилась. И «Ленин», и «Ильич» широко использовались в названиях улиц, городов и колхозов. Как писал Кольцов: «Два лица – и один человек. Но не двойственность, а синтез».
Основатель большевизма был Моисеем, равноудаленным от Бога (Истории) и людей. Его преемник стоял ближе к Истории, потому что История подошла ближе к завершению. После провозглашения победы на XVII съезде партии «зодчий» этой победы (как назвал его Радек) стал неделимым. «Иосиф», «Виссарионович», «Джугашвили» в любых сочетаниях не могли использоваться для наименований, а прозвище «Коба», никогда не фигурировавшее как публичный символ, вышло из употребления. После того как оппозиции стали бывшими, а враги скрытыми, отступничество превратилось в неискренность, а двуединый вождь – в «товарища Сталина». Только Бухарин пытался остаться в Истории, апеллируя к старой дружбе. «Дорогой Коба», – писал он 19 октября.
Прости еще раз, что я позволяю себе тебе писать. Я знаю, сколько у тебя дел, и что ты, и кто ты. Но, ей-богу, ведь я только тебе могу написать, как родному человеку, к которому можно прибегнуть, зная, что не получишь пинка в зубы. Не думай, ради всего святого, что я хочу фамильярничать. Я, вероятно, больше других понимаю твое значение. Но я пишу тебе, как когда-то Ильичу, как настоящему родному, которого даже во сне вижу, как когда-то Ильича. Это странно, быть может, но это вот так… Если бы ты обладал каким-нибудь инструментом, чтоб видеть, что творится в моей больной голове…[60 - Там же, с. 71–72.]
Николай Бухарин
Четвертого декабря 1936 года Бухарина и Рыкова вызвали на пленум ЦК, частично посвященный их делу (другая часть отводилась обсуждению новой конституции). Ежов прочитал доклад об участии бывших правых в террористической деятельности. Бухарин настаивал на своей невиновности, опровергая конкретные обвинения и обращаясь к ЦК с просьбой о доверии. Сталин объяснил всю сложность положения: «Бухарин совершенно не понял, что тут происходит. Не понял. И не понимает, в каком положении он оказался и для чего на пленуме поставили вопрос. Не понимает этого совершенно. Он бьет на искренность, требует доверия. Ну хорошо, поговорим об искренности и о доверии». Каменев и Зиновьев, продолжал он, говорили об искренности, а потом обманули доверие партии. Другие бывшие оппозиционеры говорили об искренности, а потом обманули доверие партии. Недавно арестованный первый заместитель народного комиссара тяжелой промышленности Георгий Пятаков предложил в качестве доказательства своей искренности лично расстрелять осужденных террористов, включая собственную жену, а потом обманул доверие партии.
Вы видите, какая адская штука получается. Верь после этого в искренность бывших оппозиционеров! Нельзя верить на слово бывшим оппозиционерам даже тогда, когда они берутся собственноручно расстрелять своих друзей.
…Вот, т. Бухарин, что получается. (Бухарин. Но я ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ничего не могу признать. Шум в зале.) Я ничего не говорю лично о тебе. Может быть, ты прав, может быть – нет. Но нельзя здесь выступать и говорить, что у вас нет доверия, нет веры в мою, Бухарина, искренность. Это ведь все старо. И события последних двух лет это с очевидностью показали, потому что доказано на деле, что искренность – это относительное понятие[61 - «Фрагменты стенограммы декабрьского пленума ЦК ВКП(б) 1936 года», Вопросы истории, (1995, № 1), с. 2–9.].
Томский был прав: слова ничего не значили. Но Томский сделал неправильный вывод: самоубийство, продолжал Сталин, – это «средство бывших оппозиционеров, врагов партии сбить партию, сорвать ее бдительность, последний раз перед смертью обмануть ее путем самоубийства и поставить ее в дурацкое положение». Самоубийство – доказательство неискренности. «Я бы вам посоветовал, т. Бухарин, подумать, почему Томский пошел на самоубийство и оставил письмо – «чист». А ведь тебе видно, что он далеко был не чист. Собственно говоря, если я чист, я – мужчина, человек, а не тряпка, я уж не говорю, что я – коммунист, то я буду на весь свет кричать, что я прав»[62 - Там же, с. 10.].
Бухарин кричал, но слова ничего не значили. И факты тоже. Попытки Бухарина и Рыкова указать на нелепость обвинений отвергались как не имеющие отношения к делу. Вопрос заключался не в том, совершили ли они определенные поступки, а в том, что они предали партию в прошлом, а значит, могли сделать это снова. А раз могли, значит – предали. И чем больше Бухарин кричал, тем больше путался. В чем заключалась главная задача накануне последней войны? В том, признал он в своей речи на пленуме, чтобы «все члены партии снизу доверху преисполнились бдительностью и помогли соответствующим органам до конца истребить всю ту сволочь, которая занимается вредительскими актами и всем прочим». А кто эта сволочь? Девять категорий, подлежащих «концентрированному насилию», плюс бывшие оппозиционеры, которые оказались сволочью. Можно ли доверять Каменеву и Зиновьеву? Нет, нельзя (после их расстрела «воздух сразу очистился»). Можно ли доверять Бухарину?[63 - Роговин, 1937, http://trst.narod.ru/rogovin/t4/xiv.htm]
Ответ на этот вопрос был жизненно важен для Бухарина и, возможно, интересен Кобе, но несущественен для Истории и товарища Сталина. «В истории бывают случаи, – писал Бухарин Ворошилову, – когда замечательные люди и превосходные политики делают тоже роковые ошибки «частного порядка»: я вот и буду математическим коэффициентом вашей частной ошибки. Sub specie historiae (под углом зрения истории) это – мелочь, литературный материал». Общий принцип разделялся всеми; частный случай Бухарина подлежал рассмотрению. Пленум постановил «принять предложение т. Сталина: считать вопрос о Рыкове и Бухарине незаконченным. Продолжить дальнейшую проверку и отложить дело решением до следующего пленума ЦК»[64 - «Письма Бухарина». См. также: Getty, Naumov, The Road to Terror, с. 300–330. О большевистской «субъективности» и о ритуалах «признания вины», см. особ.: J. Arch Getty, «Samokritika Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933–1938», The Russian Review (January, 1999), с. 49–70; Igal Halfin, Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial (Cambridge: Harvard University Press, 2003); Jochen Hellbeck, Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin (Cambridge: Harvard University Press, 2006); Nanci Adler, Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag (Bloomington: Indiana University Press, 2012).].
* * *
Рыковы – Алексей Иванович, его жена Нина Семеновна Маршак, их двадцатилетняя дочь Наталья, которая преподавала литературу в Высшей школе пограничников, и их многолетняя сожительница Гликерия Флегонтовна Родюкова (она же Луша, родом из Нарыма, где Рыковы жили в ссылке, когда родилась Наталья) – получили распоряжение переехать из Кремля в Дом правительства. Они въехали в квартиру 18, пустовавшую со времени ареста Радека (Радек и Гронский незадолго до того поменялись: Гронский переехал на одиннадцатый этаж, а Радек, которому не нужно было столько места, – на десятый, рядом с Куусиненом). Прошло ровно десять лет с тех пор, как председатель Совнаркома Рыков образовал Комиссию по постройке Дома ЦИК и СНК и назначил Бориса Иофана главным архитектором. По воспоминаниям Натальи, единственными людьми, которые навещали их в Доме правительства, были сестра Нины Семеновны и одна из племянниц Рыкова. Почти полная изоляция, писала она, «нравственно надорвала Рыкова»[65 - Д. Шелестов, Время Алексея Рыкова (М.: Прогресс, 1990), с. 286–287; интервью автора с Н. А. Перли-Рыковой (12 февраля 1998 г.); Гронская, Наброски по памяти, с. 77.].
Алексей Рыков и Нина Маршак
Он замкнулся в себе, был молчалив, почти не ел, молча ходил из угла в угол, напряженно думая. Иногда, так же напряженно думая, часами лежал. Как это ни странно, курил он в эти дни меньше, чем обычно. Видно, забывал даже и об этой давней своей привычке… За это время он очень постарел, волосы поредели, постоянно были как-то всклокочены, лицо осунувшееся, с синевато-бледными кругами под глазами. Видимо, он не спал. Он не разговаривал. Только думал и думал…[66 - Шелестов, Время Алексея Рыкова, с. 287.]
Бухарин, Анна Ларина, их сын Юрий, отец Бухарина Иван Гаврилович и с трудом передвигавшаяся первая жена Бухарина Надежда Михайловна Лукина продолжали жить в бывшей квартире Сталина в Кремле (они поменялись по просьбе Сталина после самоубийства его жены). По воспоминаниям Лариной:
Обстановка нашей комнаты была более чем скромной: две кровати, между ними тумбочка, дряхлая кушетка с грязной обивкой, сквозь дыры которой торчали пружины, маленький столик. На стенке висела тарелка темно-серого репродуктора. Для Н. И. эта комната удобна была тем, что в ней были раковина и кран с водой; здесь же дверь в небольшой туалет. Так что Н. И. обосновался в той комнате прочно, почти не выходя из нее…
Н. И. изолировался даже в семье. Он не хотел, чтобы заходил к нему в комнату отец, видел его страдания. «Уходи, уходи, папищик!» – слышался слабый голос Н. И. Однажды буквально приползла Надежда Михайловна, чтобы ознакомиться с вновь поступившими показаниями, а потом с моей помощью еле добралась до своей постели.
Н. И. похудел, постарел, его рыжая бородка поседела (кстати, обязанность парикмахера лежала на мне, за полгода Н. И. мог бы обрасти огромной бородой)[67 - Ларина, Незабываемое, с. 317, 326.].
Пятнадцатого декабря «Правда» опубликовала статью о том, что «троцкистско-зиновьевские шпионы, убийцы, диверсанты и агенты гестапо работали рука об руку с правыми реставраторами капитализма, с их лидерами». Бухарин написал официальную жалобу в Политбюро и личное письмо Сталину[68 - Правда (1936, 15 декабря); «У меня одна надежда на тебя», с. 76–77; «Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936», Вопросы истории, (2002, № 4), с. 7–11.].
Что мне теперь делать? Я забился в комнату, не могу видеть людей, никуда не выхожу. Родные – в отчаянье. Я – в отчаянье, ибо почти бессилен бороться с клеветой, которая со всех сторон душит. Я надеялся, что ты все же имеешь на руках то добавочное, что меня хорошо знаешь. Я думал, что ты знаешь меня больше, чем других, и что при всей правильности общей нормы недоверия этот момент войдет в качестве какой-то слагаемой величины в общую оценку[69 - «Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936», с. 9.].
Сталин написал главному редактору «Правды» Льву Мехлису. «Вопрос о бывших правых (Рыков, Бухарин) отложен до следующего пленума ЦК. Следовательно, надо прекратить ругань по адресу Бухарина (и Рыкова) до решения вопроса. Не требуется большого ума, чтобы понять эту элементарную истину»[70 - «У меня одна надежда на тебя», с. 76.].
Решением вопроса занимался Ежов. Бывших оппозиционеров арестовывали или привозили из лагерей и заставляли давать показания на Рыкова и Бухарина (а также на себя и других). Как писал М. Н. Рютин: «Мне на каждом допросе угрожают, на меня кричат, как на животное, меня оскорбляют, мне, наконец, не дают даже дать мотивированный отказ от дачи показаний». И как писал Л. А. Шацкин, следователи требуют ложных показаний «в интересах партии». И тот и другой писали Сталину, который воплощал интересы партии. Сталин – в интересах партии (sub specie historiae) – руководил кампанией, инструктировал Ежова, редактировал признания и предлагал новые имена и идеи[71 - «О партийности лиц, проходивших по делу так называемого антисоветского правотроцкистского блока», Известия ЦК КПСС, (1989, № 5), с. 72–75.].
После трех месяцев допросов, которые вел Борис Берман (брат начальника ГУЛАГа Матвея Бермана и муж сестры средневолжского коллективизатора, а ныне первого заместителя начальника управления НКВД по Московской области Бориса Бака), Радек начал давать показания на Бухарина. 13 января 1937 года они встретились на очной ставке в присутствии Сталина, Ворошилова, Ежова, Кагановича, Молотова и Орджоникидзе. Радек обвинил Бухарина в участии в террористической деятельности. Бухарин спросил, зачем он лжет. Радек пообещал объяснить.
Должен сказать, что никто меня физически не принуждал к тому, что я должен показать. Никто мне ничем не угрожал раньше, чем я дал показания. Мне тов. Берман сказал: я вам не заявляю, что будете расстреляны, если будете отказываться. Я вам не заявляю, что не будете расстреляны, если дадите показания, которые мы считаем правильными. Кроме того, я довольно взрослый человек, чтобы не верить никаким обещаниям, если человек находится в тюрьме.
Он не пытался спасти свою шкуру, утверждал он, потому что давно с ней распрощался. Самым трудным («товарищи засвидетельствуют») было начать давать показания на Бухарина.
Сначала не ориентировался на общеполитическое значение этой вещи на процессе и т. д., затем сказал себе: всякое отрицание этой вещи на суде послужит только к укреплению, поэтому надо ликвидировать дело, и в первую очередь потому, что идет война. И тогда сказал себе, что никакая дружба не позволяет скрывать, что кроме зиновьевско-троцкистской организации остается еще организация правых.
Показания Радека сочетали нужные признания с объяснениями, зачем они нужны. Некоторые объяснения были предварительными и нуждались в переработке. Сталин вычеркнул вводную часть перед двоеточием и после «укреплению» вписал «террористических организаций»[72 - «Все, что говорит Радек, – это абсолютно злостная клевета…» Очная ставка К. Радека и Н. Бухарина в ЦК ВКП(б) 13 января 1937», Источник (2001, № 1), с. 67.].
Три дня спустя Бухарин спросил у «дорогого Кобы», «не понимается ли каким-нибудь одним – неизвестным – звеном партийный долг так, что меня нужно угробить a priori?» Он готов умереть за партию, но не как ее враг. «Я не знаю более чудовищно-трагического положения, чем мое: это – бездонная трагедия, и я изнемогаю. Т. Ежов в простоте душевной говорит: Радек тоже сперва кричал, а потом… и т. д. Но я-то – не Радек, и я-то знаю, что я невиновен. И ничто и никто и никогда не заставит меня сказать «да», когда правда состоит в «нет».
Но что, если партии необходимо, чтобы Бухарин сказал «да»? Скажет ли он «нет»? «Если я вывожусь из ЦК, то нужна политическая мотивировка. В любой ячейке я должен тогда признавать себя виновным в том, в чем я отказывался себя признавать перед вами. Это невозможно. Тогда – вылет из партии. И, таким образом, конец жизни». Единственным спасением было убедить партию, или по крайней мере Кобу, что все это – измышления «мерзавцев». «И когда я смотрел на мутные блудливые глаза Радека, который со слезами лгал на меня, я видел всю эту извращенную достоевщину, глубину низин человеческой подлости, от которой я уже полумертв, тяжко раненый клеветой»[73 - «Я их, эти наветы, отвергаю и буду отвергать», Источник (2001, № 3), с. 32–37.].
Он не отправил письмо Кобе. Вместо этого он написал письмо товарищу Сталину, с копиями другим свидетелям очной ставки, в котором изложил свои соображения в менее исповедальном ключе и с новым заключением: «Я – за партию, за ЦК, за СССР, за победу, что бы ни говорили про меня на основании наветов черных и хитрых людей. Это – не газетная концовка, а глубокое убеждение и сердцевина жизни»[74 - Там же, с. 31–32.].
На процессе «антисоветского троцкистского центра», который открылся 23 января (через неделю после того, как Бухарин отправил свое письмо), Радек рассказал, что у него ушло два с половиной месяца на то, чтобы во всем разобраться. «Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас во время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу». Раздел о Бухарине был отредактирован в соответствии с предложениями Сталина[75 - Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра (М.: Юридическое изд-во, 1937), с. 230.].
Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как и мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу, была та же самая. Но мы с ним – близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в Наркомвнудел. Я так же, как и в отношении остальных наших кадров, хотел, чтобы он мог сложить оружие. Это объясняет, почему только к концу, когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации[76 - Там же, с. 231.].
Радек получил наконец возможность публично разыграть то, что было отрепетировано на очной ставке: признать свою вину, дать показания на других и объяснить, зачем это нужно. Единственное доказательство обвинения, заявил он в своем последнем слове, – это его показания и показания Пятакова («все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях»).
Я признал свою вину и дал полные показания о ней, не исходя из простой потребности раскаяться, – раскаяние может быть внутренним сознанием, которым можно не делиться, никому не показывать, – не из любви вообще к правде, – правда эта очень горька, и я уже сказал, что предпочел бы три раза быть расстрелянным, чем ее признать, – а я должен признать вину, исходя из оценки той общей пользы, которую эта правда должна принести[77 - Там же, с. 225.].
Польза заключалась в разъяснении той элементарной истины, что накануне последней войны любое сомнение есть союз с дьяволом. С активными террористами государственная власть справится («в этом мы не имеем, на основе собственного опыта, никакого сомнения»). Главную опасность представляли «полутроцкисты, четвертьтроцкисты и одна восьмая-троцкисты», которые из гордости, легкомыслия или «либерализма» способствовали активным террористам. «Мы находимся в периоде величайшего напряжения, в предвоенном периоде. Всем этим элементам перед лицом суда и перед фактом расплаты мы говорим: кто имеет малейшую трещину по отношению к партии, пусть знает, что завтра он может быть диверсантом, он может быть предателем, если эта трещина не будет старательно заделана откровенностью до конца перед партией»[78 - Там же, с. 231.].
Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, писал, что никогда не забудет Радека:
Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, – надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все – судьи, обвиняемые, слушатели – сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать – среди них близкие друзья Радека – были приговорены к смерти; Радек и трое других – только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все – обвиняемые и присутствующие – выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся[79 - Фейхтвангер, Москва 1937, гл. 7.].
Мое письмо кончалось: «обнимаю».
Твое письмо кончается: «негодяем».
После этого что же писать?
Но я хотел бы устранить одно политическое недоразумение.
Я писал письмо личного характера (о чем теперь очень сожалею). В тяжком душевном состоянии; затравленный, я писал просто к человеку большому; я сходил с ума по поводу одной только мысли, что может случиться, что кто-то поверит в мою виновность[56 - «Письма Бухарина».].
Бухарин совершил ту же ошибку, которую совершил Осинский, когда в январе 1928 года попытался отделить Сталина вождя от Сталина человека. Руководство партией не та работа, с которой возвращаются домой.
Через несколько дней Бухарина вызвали в ЦК на очную ставку с его другом детства (и отцом главного соперника за руку Анны Лариной) Григорием Сокольниковым. Сокольников после ареста начал давать показания о связях правых с Каменевым и Зиновьевым. Каганович, который присутствовал на очной ставке, писал в Сочи Сталину: «Бухарин после ухода Сокольникова пустил слезу и все просил ему верить. У меня осталось впечатление, что, может быть, они и не поддерживали прямой организационной связи с троцкистско-зиновьевским блоком, но в 32–33, а может быть, и в последующих годах они были осведомлены о троцкистских делах… Во всяком случае, правую подпольную организацию надо искать, она есть. Я думаю, что роль Рыкова, Бухарина и Томского еще выявится»[57 - Сойма, Запрещенный Сталин, с. 186.].
Вскоре прокуратура объявила, что не располагает достаточными доказательствами для возбуждения дела против Рыкова и Бухарина. Следствие по делу Радека продолжалось. По воспоминаниям Лариной, Радек позвонил Бухарину и попросил о встрече (они были соседями по даче). Бухарин ответил отказом, но Радек пришел, заверил Бухарина в своей невиновности и попросил написать Сталину. «Перед уходом Радек вновь повторил: «Николай! Верь мне – верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем не виновен!» Карл Бернгардович говорил взволнованно, подошел ближе к Н. И., простился, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты». Через несколько дней Бухарин написал Сталину:
Ко мне прибежала жена Радека и сообщила, что он арестован.
Умоляю и от себя, и от него только об одном, чтобы дело прошло через твои руки. Просила сказать, что Радек готов отдать последнюю каплю крови за нашу страну.
Я тоже ошеломлен этим неожиданным событием и – несмотря на всяческое «но», на излишнюю доверчивость к людям, на ошибки в этом отношении – считаю себя просто обязанным партийной совестью сказать, что мои впечатления от Радека (по большим вопросам, а не пустяковым) только положительны. Может, я ошибаюсь. Но все внутренние голоса моей души говорят, что я обязан тебе об этом написать. Какое страшное дело![58 - Хаустов, Самуэльсон, Сталин, НКВД и репрессии, с. 93; Ларина, Незабываемое, с. 305, 310–311; «У меня одна надежда на тебя», Исторический архив (2001, № 3), с. 69.]
Поручителями за искренность Радека были внутренние голоса души Бухарина. Поручителем за искренность Бухарина был Сталин, которого Бухарин считал старым другом по прозвищу Коба и одновременно «персональным воплощением ума и воли партии». «Только ты можешь меня вылечить, – писал он 24 сентября. – Я не просил о приеме до конца следствия, так как считал, что это политически тебе неудобно. Но теперь я еще раз просто всем существом прошу тебя об этом. Не откажи. Допроси меня, выверни всю шкуру, но поставь такую точку над i, чтоб никто никогда не смел меня лягать и отравлять жизнь, загоняя на Канатчикову дачу»[59 - «У меня одна надежда на тебя», с. 70.].
Двуединство Сталин/Коба строилось по образцу пар Ленин/Ульянов и Ленин/Ильич, в создании которых участвовал Бухарин. По версии Кольцова, Ульянов, «который берег окружающих, был с ними заботлив, как отец, ласков, как брат, прост и весел, как друг», был неотделим от Ленина, «принесшего неслыханные беспокойства земному шару» и «возглавившего собой самый страшный, самый потрясающий кровавый бой против угнетения, темноты, отсталости и суеверия». Со временем Ильич сменил Ульянова, но доктрина не изменилась. И «Ленин», и «Ильич» широко использовались в названиях улиц, городов и колхозов. Как писал Кольцов: «Два лица – и один человек. Но не двойственность, а синтез».
Основатель большевизма был Моисеем, равноудаленным от Бога (Истории) и людей. Его преемник стоял ближе к Истории, потому что История подошла ближе к завершению. После провозглашения победы на XVII съезде партии «зодчий» этой победы (как назвал его Радек) стал неделимым. «Иосиф», «Виссарионович», «Джугашвили» в любых сочетаниях не могли использоваться для наименований, а прозвище «Коба», никогда не фигурировавшее как публичный символ, вышло из употребления. После того как оппозиции стали бывшими, а враги скрытыми, отступничество превратилось в неискренность, а двуединый вождь – в «товарища Сталина». Только Бухарин пытался остаться в Истории, апеллируя к старой дружбе. «Дорогой Коба», – писал он 19 октября.
Прости еще раз, что я позволяю себе тебе писать. Я знаю, сколько у тебя дел, и что ты, и кто ты. Но, ей-богу, ведь я только тебе могу написать, как родному человеку, к которому можно прибегнуть, зная, что не получишь пинка в зубы. Не думай, ради всего святого, что я хочу фамильярничать. Я, вероятно, больше других понимаю твое значение. Но я пишу тебе, как когда-то Ильичу, как настоящему родному, которого даже во сне вижу, как когда-то Ильича. Это странно, быть может, но это вот так… Если бы ты обладал каким-нибудь инструментом, чтоб видеть, что творится в моей больной голове…[60 - Там же, с. 71–72.]
Николай Бухарин
Четвертого декабря 1936 года Бухарина и Рыкова вызвали на пленум ЦК, частично посвященный их делу (другая часть отводилась обсуждению новой конституции). Ежов прочитал доклад об участии бывших правых в террористической деятельности. Бухарин настаивал на своей невиновности, опровергая конкретные обвинения и обращаясь к ЦК с просьбой о доверии. Сталин объяснил всю сложность положения: «Бухарин совершенно не понял, что тут происходит. Не понял. И не понимает, в каком положении он оказался и для чего на пленуме поставили вопрос. Не понимает этого совершенно. Он бьет на искренность, требует доверия. Ну хорошо, поговорим об искренности и о доверии». Каменев и Зиновьев, продолжал он, говорили об искренности, а потом обманули доверие партии. Другие бывшие оппозиционеры говорили об искренности, а потом обманули доверие партии. Недавно арестованный первый заместитель народного комиссара тяжелой промышленности Георгий Пятаков предложил в качестве доказательства своей искренности лично расстрелять осужденных террористов, включая собственную жену, а потом обманул доверие партии.
Вы видите, какая адская штука получается. Верь после этого в искренность бывших оппозиционеров! Нельзя верить на слово бывшим оппозиционерам даже тогда, когда они берутся собственноручно расстрелять своих друзей.
…Вот, т. Бухарин, что получается. (Бухарин. Но я ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ничего не могу признать. Шум в зале.) Я ничего не говорю лично о тебе. Может быть, ты прав, может быть – нет. Но нельзя здесь выступать и говорить, что у вас нет доверия, нет веры в мою, Бухарина, искренность. Это ведь все старо. И события последних двух лет это с очевидностью показали, потому что доказано на деле, что искренность – это относительное понятие[61 - «Фрагменты стенограммы декабрьского пленума ЦК ВКП(б) 1936 года», Вопросы истории, (1995, № 1), с. 2–9.].
Томский был прав: слова ничего не значили. Но Томский сделал неправильный вывод: самоубийство, продолжал Сталин, – это «средство бывших оппозиционеров, врагов партии сбить партию, сорвать ее бдительность, последний раз перед смертью обмануть ее путем самоубийства и поставить ее в дурацкое положение». Самоубийство – доказательство неискренности. «Я бы вам посоветовал, т. Бухарин, подумать, почему Томский пошел на самоубийство и оставил письмо – «чист». А ведь тебе видно, что он далеко был не чист. Собственно говоря, если я чист, я – мужчина, человек, а не тряпка, я уж не говорю, что я – коммунист, то я буду на весь свет кричать, что я прав»[62 - Там же, с. 10.].
Бухарин кричал, но слова ничего не значили. И факты тоже. Попытки Бухарина и Рыкова указать на нелепость обвинений отвергались как не имеющие отношения к делу. Вопрос заключался не в том, совершили ли они определенные поступки, а в том, что они предали партию в прошлом, а значит, могли сделать это снова. А раз могли, значит – предали. И чем больше Бухарин кричал, тем больше путался. В чем заключалась главная задача накануне последней войны? В том, признал он в своей речи на пленуме, чтобы «все члены партии снизу доверху преисполнились бдительностью и помогли соответствующим органам до конца истребить всю ту сволочь, которая занимается вредительскими актами и всем прочим». А кто эта сволочь? Девять категорий, подлежащих «концентрированному насилию», плюс бывшие оппозиционеры, которые оказались сволочью. Можно ли доверять Каменеву и Зиновьеву? Нет, нельзя (после их расстрела «воздух сразу очистился»). Можно ли доверять Бухарину?[63 - Роговин, 1937, http://trst.narod.ru/rogovin/t4/xiv.htm]
Ответ на этот вопрос был жизненно важен для Бухарина и, возможно, интересен Кобе, но несущественен для Истории и товарища Сталина. «В истории бывают случаи, – писал Бухарин Ворошилову, – когда замечательные люди и превосходные политики делают тоже роковые ошибки «частного порядка»: я вот и буду математическим коэффициентом вашей частной ошибки. Sub specie historiae (под углом зрения истории) это – мелочь, литературный материал». Общий принцип разделялся всеми; частный случай Бухарина подлежал рассмотрению. Пленум постановил «принять предложение т. Сталина: считать вопрос о Рыкове и Бухарине незаконченным. Продолжить дальнейшую проверку и отложить дело решением до следующего пленума ЦК»[64 - «Письма Бухарина». См. также: Getty, Naumov, The Road to Terror, с. 300–330. О большевистской «субъективности» и о ритуалах «признания вины», см. особ.: J. Arch Getty, «Samokritika Rituals in the Stalinist Central Committee, 1933–1938», The Russian Review (January, 1999), с. 49–70; Igal Halfin, Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial (Cambridge: Harvard University Press, 2003); Jochen Hellbeck, Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin (Cambridge: Harvard University Press, 2006); Nanci Adler, Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag (Bloomington: Indiana University Press, 2012).].
* * *
Рыковы – Алексей Иванович, его жена Нина Семеновна Маршак, их двадцатилетняя дочь Наталья, которая преподавала литературу в Высшей школе пограничников, и их многолетняя сожительница Гликерия Флегонтовна Родюкова (она же Луша, родом из Нарыма, где Рыковы жили в ссылке, когда родилась Наталья) – получили распоряжение переехать из Кремля в Дом правительства. Они въехали в квартиру 18, пустовавшую со времени ареста Радека (Радек и Гронский незадолго до того поменялись: Гронский переехал на одиннадцатый этаж, а Радек, которому не нужно было столько места, – на десятый, рядом с Куусиненом). Прошло ровно десять лет с тех пор, как председатель Совнаркома Рыков образовал Комиссию по постройке Дома ЦИК и СНК и назначил Бориса Иофана главным архитектором. По воспоминаниям Натальи, единственными людьми, которые навещали их в Доме правительства, были сестра Нины Семеновны и одна из племянниц Рыкова. Почти полная изоляция, писала она, «нравственно надорвала Рыкова»[65 - Д. Шелестов, Время Алексея Рыкова (М.: Прогресс, 1990), с. 286–287; интервью автора с Н. А. Перли-Рыковой (12 февраля 1998 г.); Гронская, Наброски по памяти, с. 77.].
Алексей Рыков и Нина Маршак
Он замкнулся в себе, был молчалив, почти не ел, молча ходил из угла в угол, напряженно думая. Иногда, так же напряженно думая, часами лежал. Как это ни странно, курил он в эти дни меньше, чем обычно. Видно, забывал даже и об этой давней своей привычке… За это время он очень постарел, волосы поредели, постоянно были как-то всклокочены, лицо осунувшееся, с синевато-бледными кругами под глазами. Видимо, он не спал. Он не разговаривал. Только думал и думал…[66 - Шелестов, Время Алексея Рыкова, с. 287.]
Бухарин, Анна Ларина, их сын Юрий, отец Бухарина Иван Гаврилович и с трудом передвигавшаяся первая жена Бухарина Надежда Михайловна Лукина продолжали жить в бывшей квартире Сталина в Кремле (они поменялись по просьбе Сталина после самоубийства его жены). По воспоминаниям Лариной:
Обстановка нашей комнаты была более чем скромной: две кровати, между ними тумбочка, дряхлая кушетка с грязной обивкой, сквозь дыры которой торчали пружины, маленький столик. На стенке висела тарелка темно-серого репродуктора. Для Н. И. эта комната удобна была тем, что в ней были раковина и кран с водой; здесь же дверь в небольшой туалет. Так что Н. И. обосновался в той комнате прочно, почти не выходя из нее…
Н. И. изолировался даже в семье. Он не хотел, чтобы заходил к нему в комнату отец, видел его страдания. «Уходи, уходи, папищик!» – слышался слабый голос Н. И. Однажды буквально приползла Надежда Михайловна, чтобы ознакомиться с вновь поступившими показаниями, а потом с моей помощью еле добралась до своей постели.
Н. И. похудел, постарел, его рыжая бородка поседела (кстати, обязанность парикмахера лежала на мне, за полгода Н. И. мог бы обрасти огромной бородой)[67 - Ларина, Незабываемое, с. 317, 326.].
Пятнадцатого декабря «Правда» опубликовала статью о том, что «троцкистско-зиновьевские шпионы, убийцы, диверсанты и агенты гестапо работали рука об руку с правыми реставраторами капитализма, с их лидерами». Бухарин написал официальную жалобу в Политбюро и личное письмо Сталину[68 - Правда (1936, 15 декабря); «У меня одна надежда на тебя», с. 76–77; «Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936», Вопросы истории, (2002, № 4), с. 7–11.].
Что мне теперь делать? Я забился в комнату, не могу видеть людей, никуда не выхожу. Родные – в отчаянье. Я – в отчаянье, ибо почти бессилен бороться с клеветой, которая со всех сторон душит. Я надеялся, что ты все же имеешь на руках то добавочное, что меня хорошо знаешь. Я думал, что ты знаешь меня больше, чем других, и что при всей правильности общей нормы недоверия этот момент войдет в качестве какой-то слагаемой величины в общую оценку[69 - «Стенограммы очных ставок в ЦК ВКП(б). Декабрь 1936», с. 9.].
Сталин написал главному редактору «Правды» Льву Мехлису. «Вопрос о бывших правых (Рыков, Бухарин) отложен до следующего пленума ЦК. Следовательно, надо прекратить ругань по адресу Бухарина (и Рыкова) до решения вопроса. Не требуется большого ума, чтобы понять эту элементарную истину»[70 - «У меня одна надежда на тебя», с. 76.].
Решением вопроса занимался Ежов. Бывших оппозиционеров арестовывали или привозили из лагерей и заставляли давать показания на Рыкова и Бухарина (а также на себя и других). Как писал М. Н. Рютин: «Мне на каждом допросе угрожают, на меня кричат, как на животное, меня оскорбляют, мне, наконец, не дают даже дать мотивированный отказ от дачи показаний». И как писал Л. А. Шацкин, следователи требуют ложных показаний «в интересах партии». И тот и другой писали Сталину, который воплощал интересы партии. Сталин – в интересах партии (sub specie historiae) – руководил кампанией, инструктировал Ежова, редактировал признания и предлагал новые имена и идеи[71 - «О партийности лиц, проходивших по делу так называемого антисоветского правотроцкистского блока», Известия ЦК КПСС, (1989, № 5), с. 72–75.].
После трех месяцев допросов, которые вел Борис Берман (брат начальника ГУЛАГа Матвея Бермана и муж сестры средневолжского коллективизатора, а ныне первого заместителя начальника управления НКВД по Московской области Бориса Бака), Радек начал давать показания на Бухарина. 13 января 1937 года они встретились на очной ставке в присутствии Сталина, Ворошилова, Ежова, Кагановича, Молотова и Орджоникидзе. Радек обвинил Бухарина в участии в террористической деятельности. Бухарин спросил, зачем он лжет. Радек пообещал объяснить.
Должен сказать, что никто меня физически не принуждал к тому, что я должен показать. Никто мне ничем не угрожал раньше, чем я дал показания. Мне тов. Берман сказал: я вам не заявляю, что будете расстреляны, если будете отказываться. Я вам не заявляю, что не будете расстреляны, если дадите показания, которые мы считаем правильными. Кроме того, я довольно взрослый человек, чтобы не верить никаким обещаниям, если человек находится в тюрьме.
Он не пытался спасти свою шкуру, утверждал он, потому что давно с ней распрощался. Самым трудным («товарищи засвидетельствуют») было начать давать показания на Бухарина.
Сначала не ориентировался на общеполитическое значение этой вещи на процессе и т. д., затем сказал себе: всякое отрицание этой вещи на суде послужит только к укреплению, поэтому надо ликвидировать дело, и в первую очередь потому, что идет война. И тогда сказал себе, что никакая дружба не позволяет скрывать, что кроме зиновьевско-троцкистской организации остается еще организация правых.
Показания Радека сочетали нужные признания с объяснениями, зачем они нужны. Некоторые объяснения были предварительными и нуждались в переработке. Сталин вычеркнул вводную часть перед двоеточием и после «укреплению» вписал «террористических организаций»[72 - «Все, что говорит Радек, – это абсолютно злостная клевета…» Очная ставка К. Радека и Н. Бухарина в ЦК ВКП(б) 13 января 1937», Источник (2001, № 1), с. 67.].
Три дня спустя Бухарин спросил у «дорогого Кобы», «не понимается ли каким-нибудь одним – неизвестным – звеном партийный долг так, что меня нужно угробить a priori?» Он готов умереть за партию, но не как ее враг. «Я не знаю более чудовищно-трагического положения, чем мое: это – бездонная трагедия, и я изнемогаю. Т. Ежов в простоте душевной говорит: Радек тоже сперва кричал, а потом… и т. д. Но я-то – не Радек, и я-то знаю, что я невиновен. И ничто и никто и никогда не заставит меня сказать «да», когда правда состоит в «нет».
Но что, если партии необходимо, чтобы Бухарин сказал «да»? Скажет ли он «нет»? «Если я вывожусь из ЦК, то нужна политическая мотивировка. В любой ячейке я должен тогда признавать себя виновным в том, в чем я отказывался себя признавать перед вами. Это невозможно. Тогда – вылет из партии. И, таким образом, конец жизни». Единственным спасением было убедить партию, или по крайней мере Кобу, что все это – измышления «мерзавцев». «И когда я смотрел на мутные блудливые глаза Радека, который со слезами лгал на меня, я видел всю эту извращенную достоевщину, глубину низин человеческой подлости, от которой я уже полумертв, тяжко раненый клеветой»[73 - «Я их, эти наветы, отвергаю и буду отвергать», Источник (2001, № 3), с. 32–37.].
Он не отправил письмо Кобе. Вместо этого он написал письмо товарищу Сталину, с копиями другим свидетелям очной ставки, в котором изложил свои соображения в менее исповедальном ключе и с новым заключением: «Я – за партию, за ЦК, за СССР, за победу, что бы ни говорили про меня на основании наветов черных и хитрых людей. Это – не газетная концовка, а глубокое убеждение и сердцевина жизни»[74 - Там же, с. 31–32.].
На процессе «антисоветского троцкистского центра», который открылся 23 января (через неделю после того, как Бухарин отправил свое письмо), Радек рассказал, что у него ушло два с половиной месяца на то, чтобы во всем разобраться. «Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас во время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу». Раздел о Бухарине был отредактирован в соответствии с предложениями Сталина[75 - Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра (М.: Юридическое изд-во, 1937), с. 230.].
Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как и мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу, была та же самая. Но мы с ним – близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в Наркомвнудел. Я так же, как и в отношении остальных наших кадров, хотел, чтобы он мог сложить оружие. Это объясняет, почему только к концу, когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации[76 - Там же, с. 231.].
Радек получил наконец возможность публично разыграть то, что было отрепетировано на очной ставке: признать свою вину, дать показания на других и объяснить, зачем это нужно. Единственное доказательство обвинения, заявил он в своем последнем слове, – это его показания и показания Пятакова («все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях»).
Я признал свою вину и дал полные показания о ней, не исходя из простой потребности раскаяться, – раскаяние может быть внутренним сознанием, которым можно не делиться, никому не показывать, – не из любви вообще к правде, – правда эта очень горька, и я уже сказал, что предпочел бы три раза быть расстрелянным, чем ее признать, – а я должен признать вину, исходя из оценки той общей пользы, которую эта правда должна принести[77 - Там же, с. 225.].
Польза заключалась в разъяснении той элементарной истины, что накануне последней войны любое сомнение есть союз с дьяволом. С активными террористами государственная власть справится («в этом мы не имеем, на основе собственного опыта, никакого сомнения»). Главную опасность представляли «полутроцкисты, четвертьтроцкисты и одна восьмая-троцкисты», которые из гордости, легкомыслия или «либерализма» способствовали активным террористам. «Мы находимся в периоде величайшего напряжения, в предвоенном периоде. Всем этим элементам перед лицом суда и перед фактом расплаты мы говорим: кто имеет малейшую трещину по отношению к партии, пусть знает, что завтра он может быть диверсантом, он может быть предателем, если эта трещина не будет старательно заделана откровенностью до конца перед партией»[78 - Там же, с. 231.].
Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, писал, что никогда не забудет Радека:
Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, – надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все – судьи, обвиняемые, слушатели – сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать – среди них близкие друзья Радека – были приговорены к смерти; Радек и трое других – только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все – обвиняемые и присутствующие – выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся[79 - Фейхтвангер, Москва 1937, гл. 7.].