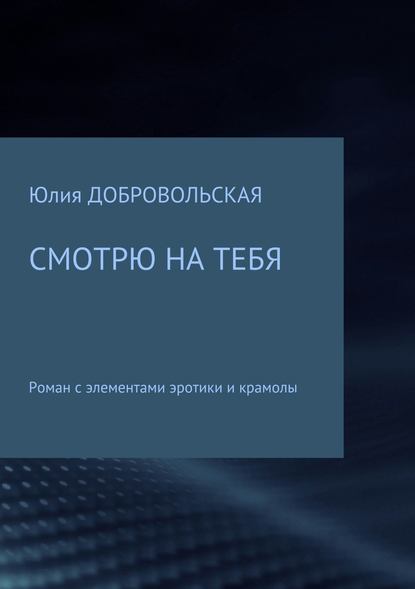По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смотрю на тебя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пьяницы! Пьяницы! – Кричали разгорячённые и возбуждённые игрой мальчишки, и некоторые девчонки подхватывали: – Пьяницы! Пьяницы!
Так они и звались – «пьяницы». Я даже не помню – знала ли их имена.
Мама тоже иногда презрительно что-то говорила о ком-то из них, или о двоих сразу:
– Эта пьяница…
Или:
– Эти пьяницы…
И далее, например:
– …никак не удосужатся поменять перегоревшую лампу на первом этаже!
Или:
– Эти пьяницы третий день не могут починить форточку на нашей площадке!
Я ничего не имела против них – ни двоих, ни по раздельности. У меня не получалось улюлюкать им вслед, а даже наоборот – хотелось защитить этих тихих, старающихся быть как можно незаметней, трудолюбивых и ответственных мужчину и женщину. Но я не решалась оборвать всеобщий гвалт и всякий раз, оказываясь свидетелем травли, изнывала внутри себя от жуткого стыда – за жестокосердных подростков перед этой парой, за «пьяниц» перед сверстниками и за собственное бессилие перед одними, перед другими и перед самой собой. Но это пришло ко мне чуть позже.
А когда они только появились в нашем подвале, в нашем дворе, ребята повзрослей как-то позвали нас, малышню, посмотреть, как дед с бабой… – далее следовал по-детски искажённый непечатный глагол в третьем лице множественного числа.
Мы подкрались к расположенному на уровне тротуара незанавешенному окну их убогой каморки. В ней стоял недавно выкинутый соседкой тётей Розой двухтумбовый письменный стол, пара разномастных обшарпанных стульев, этажерка и табурет с обломанным вверху, но живым фикусом – всё это тоже, вероятно, в разное время выносилось кем-то на помойку. В углу, напротив окна, висела белая раковина с чёрными язвами отбитой эмали, над ней из стены торчал начищенный медный кран. Под раковиной стояло ведро с крышкой, тёмно-зелёное в серо-перламутровых брызгах – совсем такое же, как большой кувшин у нас в ванной, из которого меня поливали в детстве, пока не появился душ – мятое и тоже с отбитой местами эмалью. Некоторые говаривали, что им доводилось видеть, как дед и баба писают в это ведро. Надо сказать, что «деду» и «бабе» навряд ли было больше тридцати пяти-сорока…
В поле нашего зрения попала часть металлической кровати с серым полосатым матрацем и две пары дрыгающихся на нём ног. Потом дрыганье прекратилось, мы ждали-ждали, но ничего больше не происходило, и мы разошлись.
После этого я ещё не раз участвовала в подглядывании за непонятными мне действиями, но, в отличие от остальных, ни восторга, ни просто интереса к происходящему не испытывала.
Двадцать шесть лет тому назад
– Ну да, – сказала Дора, – только у пьяниц и ханыг это не так красиво и романтично.
– А у тебя уже было… ну… с мужчиной? – спросила я.
– Тоже нет, – сказала Дора, – но к этому надо готовиться.
– Как это? – Заинтересовалась я.
– Изучать своё тело, узнавать, что ему приятно, а что нет, какое место наиболее эффектно, а какое следует прикрывать.
– Как это?..
– Раздевайся, – сказала она.
– Совсем? – спросила я.
– Совсем.
Я разделась, она тоже.
– Грудь хороша, – сказала Дора, – запомни, это твоё наибольшее достоинство.
– А я думала, – сказала я, – что она слишком мала, для того, чтобы быть достоинством.
– Не думаю, что Антону понравится коровье вымя! Он человек утончённый, а не мужлан какой-нибудь деревенский. Та-ак, – сказала она, поворачивая меня кругом, – попка у тебя тоже хороша: маленькая и аккуратная… талия в порядке… ноги… вот только не косолапь, следи за походкой. И не сутулься!
Дора показала мне приём вырабатывания правильной осанки и изящной походки – со стопкой книг на голове.
Потом она заставила меня беспристрастно и критично оценить её собственные достоинства и недостатки.
Я не могла быть беспристрастной, и тем более – критичной. Дора – моя подруга, единственная за всю мою жизнь подруга. Как я могу сказать ей, что у неё слишком короткие ноги и слишком узкие для её бёдер плечи?..
– У тебя здоровская талия, – сказала я.
– Дальше, – сказала Дора.
– И ужасно прямая спина, мне такой в жизни не сделать!
– Критики не слышу, – сказала Дора.
– Да у тебя всё так классно и правильно!..
– Ну, ладно – Дору, видимо, вполне устроил разбор её фигуры по косточкам в моём исполнении. – Переходим к следующему этапу. Гладь себя здесь, – сказала она и стала гладить свою грудь.
– Ничего…
– Давай я, – сказала она.
Когда гладила она, было щекотно. Ещё щекотно было по бокам живота, на шее и спине.
– Это твои эрогенные зоны, – сказала Дора.
– Угу, – кивнула я с понимающим видом.
Я удивлялась: откуда всё это может быть известно моей ровеснице, девчонке, как и я, игравшей чуть ли не до десятого класса в куклы? Девчонке, жившей вовсе не в столице, а где-то за лесами и долами – тогда мне казалось, что любой город, в который нужно ехать поездом, а не электричкой, это несусветная дальняя даль. Откуда в Ярославле можно было узнать обо всём этом?..
Да, тогда я была искренне уверена, что все знания сосредоточены только в одном месте – в Москве…
Сколько же раз потом я посмеюсь над той собой, когда, встречаясь с людьми, родившимися и прожившими на невесть каких дальних «окраинах империи», буду поражаться их разносторонности, эрудиции, духовности!..
– А здесь ты себя когда-нибудь трогала? – и она коснулась моего паха.
Я вздрогнула от знакомого ощущения и сказала небрежно:
– Так, иногда.
* * *