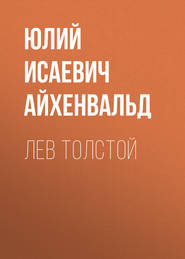По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лермонтов
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #7
«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить. Есть нечто горькое в том, что поэтическое наследие Лермонтова изобилует отрывками…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Лермонтов
Лермонтов
Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить. Есть нечто горькое в том, что поэтическое наследие Лермонтова изобилует отрывками. Он не договорил; на самом значительном и важном месте его слова, его стихи прервала равнодушная пуля соперника, и мы не услыхали тех «рассказов мудреных и чудных», которые знал бедный странник его стихотворения, и тех рассказов простых и проникновенных, которые узнал он сам. Это, впрочем, не значит, что Лермонтов оставил мало произведений: напротив, их много, и в этом множестве есть лишнее – страницы повторяющиеся, бледные и незрелые. Мы хотим сказать главным образом то, что его поэзия – отрывок по существу; она не завершила своего цикла, и только намечены те глубокие перспективы, которые ей надлежало еще пройти. И между этим обилием его стихов и прозы и их внутренней незаконченностью его неразрывная связь. Он не успел, он не сказал своего последнего и лучшего слова именно потому, что вообще начал говорить и жить слишком рано: пока из этой душевной преждевременности, из этой роковой недозрелости он выбивался на свою настоящую дорогу, пока он блуждал и в долгих странствиях искал себя, дорога пресеклась у подножия Машука.
Юный поэт вполне сознавал досрочность своих ощущений, и эта мучительная особенность душевного склада угнетала его; он постоянно чувствовал ее бремя и много сил потратил на то, чтобы сбросить с себя ее непосильные вериги.
…Чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства: злоба, гордость и любовь.
В том возрасте, когда еще «новы все впечатленья бытия», Лермонтов уже был далек от непосредственности и разлад и сомнения закрались в его отроческое сердце. В том возрасте, когда расцветают одни надежды и тревожно-сладкие предчувствия, Лермонтов уже не заметил их, прошел мимо; цельность и чистота его духа были возмущены в самом истоке жизни. В том возрасте, когда тешат игры, Лермонтов изведал уже «безнадежную любовь ребенка», чертил в тетрадях женские профили; его опалило дыхание страсти. И так его душа, еще не настроенная, еще не готовая, преждевременно бросилась в «море жизни шумной»; за это «страдания ее до срока изменили» и она заплатила «страшной пустотой» и тем «безочарованием», которое так хорошо подметил в ней Жуковский.
Мотив досрочности настойчиво и разнообразно звучит на всем недолгом протяжении поэзии Лермонтова. Он «из детских рано вырвался одежд» и, в противоположность своему «милому Саше?», вместе с ними потерял «и звонкий детских смех, и веру гордую в людей».
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал,
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный.
Очевидно, нельзя безнаказанно презирать детство, отвергать его одежды и надежды; очевидно, есть какой-то срок для души, раньше которого она не может раскрыться для известных впечатлений, не может вместить в себе жгучих страстей, – иначе эти страсти, довременно пробужденные, «живым огнем прожгут свой алтарь, не найдя кругом достойной жертвы». Детство надо пережить, его необходимо преодолеть, – иначе взрослое дитя, «ранний старик без седин», под бременем этого трагического противоречия будет влачить в своем опустошенном сердце одни только разбитые упования и тоску. Недаром Лермонтов желал ребенку своего друга:
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум.
И естественно, кто вышел, как Лермонтов, «один на дорогу», кто ушел вперед раньше других, тот уже не остановится, тот будет и дальше идти один; он «в мире не оставит брата, на дружний зов не встретит ответа» и, как месяц, «небесной степи бледный властелин», будет одиноко совершать свое печальное движение. Досрочность неминуемо ведет к одиночеству. Дубовый листок, который созрел до срока, отрывается от ветки родимой и вот носится, носится без цели, без дороги; желтый и пыльный, он не пара свежим сынам зеленого дерева, и вовсе не привлекательно для них то, что он много видел, много знает, много думал; он никогда не найдет ласки у молодой, непосредственной, недумающей чинары. «Ранний плод, лишенный сока», или «тощий плод, до времени созрелый, висит между цветов, пришлец осиротелый, и час их красоты – его паденья час». Это – особая, специфически лермонтовская, драма – быть плодом среди цветов. Другие плоды еще не созрели, и созревший не имеет современников. Ускоренный какою-то зловещей силой, оторванный от времени, от родных поколений, без ровесников и среды, он одинок в своей ненормальной зрелости, которой не радуется сам, которая не радует и чужих взоров; он будет одинок и в своем «довременном конце», окруженный безучастной молодостью, которая для него неродная и которая поэтому зрелищем своей красоты не утешит его в предсмертные мгновенья. Он «раньше начал, кончит ране», – и в начале, и в конце был он и будет «один, как прежде во вселенной, без упованья и любви».
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы ж на нем от зноя все увянут.
Но человеческому существу не свойственно быть островком среди волнующегося моря людей; человек не может и не хочет жить отдельно и довольствоваться собственною красотою и величием. Он испытывает глубокую тоску по чужой ладье, которая бы своим одиноким парусом забелела в тумане моря голубом и пристала к его прирожденно-гостеприимным берегам; он нуждается в этих гостях, которым он мог бы отдать цветы своего острова, цветы своей души; ему нужно склонить пред кем-нибудь свои гордые пальмы, хотя бы это впоследствии и принесло ему гибель. Иначе его пышные цветы поблекнут, никого не порадовав, и будет жаловаться ни с кем не поделившаяся, одинокая душа, что она устала, что она увяла в бурях рока, под знойным солнцем бытия. Даже старый утес, великан, покрытый морщинами, тихонько плачет о своей мимолетной гостье, о своей маленькой золотой тучке, которая провела ночь на его груди. Одинокая сосна под снежной ризой мечтает о прекрасной пальме юга; в долине Дагестана сраженный боец грезит в последнем сновидении о юной женщине, которой грезится долина Дагестана, – и всему, всему живому хочется рассеять безотрадность одиночества.
Оттого, между прочим, сердце жадно ловит сладкие звуки, которые порою раздаются на земле и для тех, кто им неподвижно внемлет, принимают близкий и милый образ, «в одежду жизни одевают все, чего уж нет». Ибо звуки бессмертны, и, если хоть однажды огласят они землю своей небесной гармонией, они уже не потонут в жизненном шуме: душа никогда не забудет той мелодии, которую пел ей ангел в небе полуночи. Лермонтов часто возвращается к этому обаянию «святых звуков», которые он роднит со слезами. Вдохновенный страданьем поэт-слепец только по звуку слова узнает родное существо, и так прекрасно и многозначительно говорит об этом Лермонтов:
Он вас не зрел; но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.
Для других непонятные, другим невнятные, есть в мире такие звуки, которые на разных концах вселенной могут услыхать и понять только двое; и благодаря этому в людной пустыне жизни осуществляется радостная перекличка родственных душ и они не затериваются одна для другой. Звук – это зов.
Есть звуки – значенье ничтожно
И презрено гордой толпой,
Но их позабыть невозможно, —
Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе, зарыто былое
На дне этих звуков святых,
И в мире поймут их лишь двое,
И двое лишь вздрогнут от них!
Найти в земном хоре свое созвучие, свою человеческую рифму; и в храме, и средь боя чутко услышать и выделить ее изо всех голосов мира; в упоении дать на нее сердечный отклик и броситься ей навстречу, даже «не кончив молитвы», – вот к чему, в исконной боязни одиночества, стремится каждое существо. Но не каждое успевает в этом стремлении, и многие остаются «в созвучии вселенной ложным звуком», сознают себя как живой диссонанс и, в одинокой тоске забывая небесные гимны, не умеют рассказать свою душу и уныло слушают одни только «скучные песни земли».
Что сам Лермонтов был одинок, «как замка мрачного, пустого ничтожный властелин», что песни земли долго казались ему скучны, что было ему и скучно, и грустно («мне скучно в день, мне скучно в ночь»), – это слишком ясно для всех его читателей. Несмотря на свою глубокую восприимчивость ко звукам небес, на изумительный внутренний слух, он долго не находил себе утешения в этой возвышенности своей природы и его давило «жизни тяготенье»: свое тяготение имеет не только земля, но и жизнь. От мелочных сует, как он сам говорит, его спасало вдохновение, – «но от своей души спасенья и в самом счастьи нет». Его угнетала тоска, «развалина страстей». Чаша бытия казалась ему пустой, чужой, и уже очень рано пресытился он ею, отверг вино жизни, и очень рано пришел он к сознанию того, что радости и горести, чувства и желания, вся психика вообще не заслуживают повторения. Нетрудно подметить эту характерную тему его поэзии. Досрочность и одиночество приводят к идеалу бесследности, когда все переживаемое не напоминает ничего пережитого. Жизнь интересна только в своей однократности, однозначности, она не должна повторяться – «не дважды Бог дает нам радость» и «кто может дважды счастье знать?» Наполеон, который «погиб, как жил, без предков и потомства», который был сам по себе и перешел из ничего в ничто, с острова на остров, без окружений, – вот излюбленный прообраз той натуры, какая часто носилась перед умственным взором Лермонтова. Нет ни прошлого, ни будущего, ни родины, ни изгнания – ни от чего не остается следов. Каждый момент представляет собою нечто первое и последнее; он – не продолжение, а сразу начало и конец, одно сплошное настоящее, которому чужды и воспоминания, и надежды. Душа ничего не наследует, и все, что она испытывает, не связано между собою, не образует цепи или звеньев; нет никаких ассоциаций – есть только вихрь мгновений, из которых всякое обладает полной самостоятельностью, довлеет себе. Оттого каждый раз душа опять нова, и прежние письмена с нее бесследно стерты. Оттого
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы.
Сновидения – продолжения; хорошо поэтому, когда их нет.
И охотно сравнивает Лермонтов человека с тучками, облаками, волнами – с тем, что по самой природе своей не знает руля и ветрил, не оставляет в мире следа, «игру бессвязную заводит»:
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада…
А волны, волны – все одне!
Я, обожатель их свободы,
Как я в душе любил всегда
Их бесконечные походы
Бог весть откуда и куда;
…………………………………
И эту жизнь без дел и дум,
Без родины и без могилы.
Правда, об этой бесследности поэт иной раз говорит и с горечью: «Мы гибнем, наш сотрется след». Он жалуется, что в нем самом «прошлого нет и следа», он сетует, что его поколение пройдет «без шума и следа» (Лермонтов вообще часто упоминает о шуме, и нужно ему, чтобы жизнь не была тиха, имела свое звучание); он не хочет быть в мире прохожим и угаснуть, «как в ночь звезды падучей пламень», и он знает,
Какая сладость в мысли: я – отец!
И в той же мысли сколько муки тайной!
Оставить в мире след…
Он оплакивает бесследную судьбу Одоевского.
…Дела твои и мненья,
И думы – все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков.
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #7
«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить. Есть нечто горькое в том, что поэтическое наследие Лермонтова изобилует отрывками…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Лермонтов
Лермонтов
Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить. Есть нечто горькое в том, что поэтическое наследие Лермонтова изобилует отрывками. Он не договорил; на самом значительном и важном месте его слова, его стихи прервала равнодушная пуля соперника, и мы не услыхали тех «рассказов мудреных и чудных», которые знал бедный странник его стихотворения, и тех рассказов простых и проникновенных, которые узнал он сам. Это, впрочем, не значит, что Лермонтов оставил мало произведений: напротив, их много, и в этом множестве есть лишнее – страницы повторяющиеся, бледные и незрелые. Мы хотим сказать главным образом то, что его поэзия – отрывок по существу; она не завершила своего цикла, и только намечены те глубокие перспективы, которые ей надлежало еще пройти. И между этим обилием его стихов и прозы и их внутренней незаконченностью его неразрывная связь. Он не успел, он не сказал своего последнего и лучшего слова именно потому, что вообще начал говорить и жить слишком рано: пока из этой душевной преждевременности, из этой роковой недозрелости он выбивался на свою настоящую дорогу, пока он блуждал и в долгих странствиях искал себя, дорога пресеклась у подножия Машука.
Юный поэт вполне сознавал досрочность своих ощущений, и эта мучительная особенность душевного склада угнетала его; он постоянно чувствовал ее бремя и много сил потратил на то, чтобы сбросить с себя ее непосильные вериги.
…Чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства: злоба, гордость и любовь.
В том возрасте, когда еще «новы все впечатленья бытия», Лермонтов уже был далек от непосредственности и разлад и сомнения закрались в его отроческое сердце. В том возрасте, когда расцветают одни надежды и тревожно-сладкие предчувствия, Лермонтов уже не заметил их, прошел мимо; цельность и чистота его духа были возмущены в самом истоке жизни. В том возрасте, когда тешат игры, Лермонтов изведал уже «безнадежную любовь ребенка», чертил в тетрадях женские профили; его опалило дыхание страсти. И так его душа, еще не настроенная, еще не готовая, преждевременно бросилась в «море жизни шумной»; за это «страдания ее до срока изменили» и она заплатила «страшной пустотой» и тем «безочарованием», которое так хорошо подметил в ней Жуковский.
Мотив досрочности настойчиво и разнообразно звучит на всем недолгом протяжении поэзии Лермонтова. Он «из детских рано вырвался одежд» и, в противоположность своему «милому Саше?», вместе с ними потерял «и звонкий детских смех, и веру гордую в людей».
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал,
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный.
Очевидно, нельзя безнаказанно презирать детство, отвергать его одежды и надежды; очевидно, есть какой-то срок для души, раньше которого она не может раскрыться для известных впечатлений, не может вместить в себе жгучих страстей, – иначе эти страсти, довременно пробужденные, «живым огнем прожгут свой алтарь, не найдя кругом достойной жертвы». Детство надо пережить, его необходимо преодолеть, – иначе взрослое дитя, «ранний старик без седин», под бременем этого трагического противоречия будет влачить в своем опустошенном сердце одни только разбитые упования и тоску. Недаром Лермонтов желал ребенку своего друга:
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум.
И естественно, кто вышел, как Лермонтов, «один на дорогу», кто ушел вперед раньше других, тот уже не остановится, тот будет и дальше идти один; он «в мире не оставит брата, на дружний зов не встретит ответа» и, как месяц, «небесной степи бледный властелин», будет одиноко совершать свое печальное движение. Досрочность неминуемо ведет к одиночеству. Дубовый листок, который созрел до срока, отрывается от ветки родимой и вот носится, носится без цели, без дороги; желтый и пыльный, он не пара свежим сынам зеленого дерева, и вовсе не привлекательно для них то, что он много видел, много знает, много думал; он никогда не найдет ласки у молодой, непосредственной, недумающей чинары. «Ранний плод, лишенный сока», или «тощий плод, до времени созрелый, висит между цветов, пришлец осиротелый, и час их красоты – его паденья час». Это – особая, специфически лермонтовская, драма – быть плодом среди цветов. Другие плоды еще не созрели, и созревший не имеет современников. Ускоренный какою-то зловещей силой, оторванный от времени, от родных поколений, без ровесников и среды, он одинок в своей ненормальной зрелости, которой не радуется сам, которая не радует и чужих взоров; он будет одинок и в своем «довременном конце», окруженный безучастной молодостью, которая для него неродная и которая поэтому зрелищем своей красоты не утешит его в предсмертные мгновенья. Он «раньше начал, кончит ране», – и в начале, и в конце был он и будет «один, как прежде во вселенной, без упованья и любви».
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы ж на нем от зноя все увянут.
Но человеческому существу не свойственно быть островком среди волнующегося моря людей; человек не может и не хочет жить отдельно и довольствоваться собственною красотою и величием. Он испытывает глубокую тоску по чужой ладье, которая бы своим одиноким парусом забелела в тумане моря голубом и пристала к его прирожденно-гостеприимным берегам; он нуждается в этих гостях, которым он мог бы отдать цветы своего острова, цветы своей души; ему нужно склонить пред кем-нибудь свои гордые пальмы, хотя бы это впоследствии и принесло ему гибель. Иначе его пышные цветы поблекнут, никого не порадовав, и будет жаловаться ни с кем не поделившаяся, одинокая душа, что она устала, что она увяла в бурях рока, под знойным солнцем бытия. Даже старый утес, великан, покрытый морщинами, тихонько плачет о своей мимолетной гостье, о своей маленькой золотой тучке, которая провела ночь на его груди. Одинокая сосна под снежной ризой мечтает о прекрасной пальме юга; в долине Дагестана сраженный боец грезит в последнем сновидении о юной женщине, которой грезится долина Дагестана, – и всему, всему живому хочется рассеять безотрадность одиночества.
Оттого, между прочим, сердце жадно ловит сладкие звуки, которые порою раздаются на земле и для тех, кто им неподвижно внемлет, принимают близкий и милый образ, «в одежду жизни одевают все, чего уж нет». Ибо звуки бессмертны, и, если хоть однажды огласят они землю своей небесной гармонией, они уже не потонут в жизненном шуме: душа никогда не забудет той мелодии, которую пел ей ангел в небе полуночи. Лермонтов часто возвращается к этому обаянию «святых звуков», которые он роднит со слезами. Вдохновенный страданьем поэт-слепец только по звуку слова узнает родное существо, и так прекрасно и многозначительно говорит об этом Лермонтов:
Он вас не зрел; но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.
Для других непонятные, другим невнятные, есть в мире такие звуки, которые на разных концах вселенной могут услыхать и понять только двое; и благодаря этому в людной пустыне жизни осуществляется радостная перекличка родственных душ и они не затериваются одна для другой. Звук – это зов.
Есть звуки – значенье ничтожно
И презрено гордой толпой,
Но их позабыть невозможно, —
Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе, зарыто былое
На дне этих звуков святых,
И в мире поймут их лишь двое,
И двое лишь вздрогнут от них!
Найти в земном хоре свое созвучие, свою человеческую рифму; и в храме, и средь боя чутко услышать и выделить ее изо всех голосов мира; в упоении дать на нее сердечный отклик и броситься ей навстречу, даже «не кончив молитвы», – вот к чему, в исконной боязни одиночества, стремится каждое существо. Но не каждое успевает в этом стремлении, и многие остаются «в созвучии вселенной ложным звуком», сознают себя как живой диссонанс и, в одинокой тоске забывая небесные гимны, не умеют рассказать свою душу и уныло слушают одни только «скучные песни земли».
Что сам Лермонтов был одинок, «как замка мрачного, пустого ничтожный властелин», что песни земли долго казались ему скучны, что было ему и скучно, и грустно («мне скучно в день, мне скучно в ночь»), – это слишком ясно для всех его читателей. Несмотря на свою глубокую восприимчивость ко звукам небес, на изумительный внутренний слух, он долго не находил себе утешения в этой возвышенности своей природы и его давило «жизни тяготенье»: свое тяготение имеет не только земля, но и жизнь. От мелочных сует, как он сам говорит, его спасало вдохновение, – «но от своей души спасенья и в самом счастьи нет». Его угнетала тоска, «развалина страстей». Чаша бытия казалась ему пустой, чужой, и уже очень рано пресытился он ею, отверг вино жизни, и очень рано пришел он к сознанию того, что радости и горести, чувства и желания, вся психика вообще не заслуживают повторения. Нетрудно подметить эту характерную тему его поэзии. Досрочность и одиночество приводят к идеалу бесследности, когда все переживаемое не напоминает ничего пережитого. Жизнь интересна только в своей однократности, однозначности, она не должна повторяться – «не дважды Бог дает нам радость» и «кто может дважды счастье знать?» Наполеон, который «погиб, как жил, без предков и потомства», который был сам по себе и перешел из ничего в ничто, с острова на остров, без окружений, – вот излюбленный прообраз той натуры, какая часто носилась перед умственным взором Лермонтова. Нет ни прошлого, ни будущего, ни родины, ни изгнания – ни от чего не остается следов. Каждый момент представляет собою нечто первое и последнее; он – не продолжение, а сразу начало и конец, одно сплошное настоящее, которому чужды и воспоминания, и надежды. Душа ничего не наследует, и все, что она испытывает, не связано между собою, не образует цепи или звеньев; нет никаких ассоциаций – есть только вихрь мгновений, из которых всякое обладает полной самостоятельностью, довлеет себе. Оттого каждый раз душа опять нова, и прежние письмена с нее бесследно стерты. Оттого
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы.
Сновидения – продолжения; хорошо поэтому, когда их нет.
И охотно сравнивает Лермонтов человека с тучками, облаками, волнами – с тем, что по самой природе своей не знает руля и ветрил, не оставляет в мире следа, «игру бессвязную заводит»:
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада…
А волны, волны – все одне!
Я, обожатель их свободы,
Как я в душе любил всегда
Их бесконечные походы
Бог весть откуда и куда;
…………………………………
И эту жизнь без дел и дум,
Без родины и без могилы.
Правда, об этой бесследности поэт иной раз говорит и с горечью: «Мы гибнем, наш сотрется след». Он жалуется, что в нем самом «прошлого нет и следа», он сетует, что его поколение пройдет «без шума и следа» (Лермонтов вообще часто упоминает о шуме, и нужно ему, чтобы жизнь не была тиха, имела свое звучание); он не хочет быть в мире прохожим и угаснуть, «как в ночь звезды падучей пламень», и он знает,
Какая сладость в мысли: я – отец!
И в той же мысли сколько муки тайной!
Оставить в мире след…
Он оплакивает бесследную судьбу Одоевского.
…Дела твои и мненья,
И думы – все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков.
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0