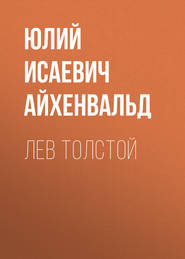По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Но почему же критик не цитирует «Памятника», где Пушкин говорит уже не о поэте вообще, а о самом себе и вменяет себе в заслугу именно не звуки сладкие и молитвы, а то, что он пробуждал (созерцатель дремлет, а не будит) чувства добрые, что в свой жестокий век он восславил свободу и призывал милость к падшим?
Можно интуитивно, силой субъективного проникновения, воспринять самый дух той или другой поэзии и прямо высказать свои впечатления от него, и тогда нельзя уже спорить, а только остается одному впечатлению противопоставлять другое. Импрессионизм, как и искусство вообще, лежит по ту сторону доказательств. Но ведь Мережковский хочет обосновать свое понимание, не только сказать, но и доказать его, – а в таком случае он не имеет права ограничиваться лишь теми цитатами, которые для него выгодны, и забывать о тех, которые ему противоречат. Уж если цитировать, то цитировать все. И если бы этому следовал Мережковский, то сказал ли бы он, что пушкинская «ясная лазурь» («одна ты несешься по ясной лазури») «по сравнению с глубокобездонным лермонтовским небом» казалась ему «плоской, как голубая эмаль»? Ведь на плоское сравнение неба и – что еще мертвее – женского взора с голубой эмалью дерзает не Пушкин, а именно Лермонтов. Ведь Мережковский хорошо знает, что именно последний написал эти стихи:
Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой.
Не Пушкину, а Лермонтову принадлежит вся плоскость эмали… Но это – лишь характерная мелочь.
Главное же – в том, что не отдельные слова и стихи, податливые мишени цитат, а благодатное целое пушкинской поэзии не только не позволяет ославлять ее бесстрастной и созерцательной, но и приводит к совершенно противоположному взгляду. Для Пушкина, как и для Фауста, вначале было Дело.
Мало того: если к кому-нибудь и могут быть применены слова Мережковского: «в начале – буря, а в конце тишь да гладь», то именно к Лермонтову, а не к Пушкину. Мятежный Лермонтов долго искал бури, но кончил покоем. Говорить о несмиренности и несмиримости Лермонтова, хвалить его за это, противопоставлять его в этом отношении всей остальной русской литературе – значит не понимать его и ее.
По своему обыкновению, для того чтобы подтвердить мысль о вечной мятежности Лермонтова, Мережковский, несравненный маэстро цитат, властелин чужого, глубокий начетчик, цитирует много и многих – вплоть до полкового писаря. Но почему-то не удосужился он процитировать тот стих будто бы несмиренного и несмирившегося поэта, который гласит:
…смиряется души моей тревога.
Все время толкует Мережковский о несмиренности, и все время читателю сквозь эти речи явственно слышится: смиряется души моей тревога. «Один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, – Лермонтов» – так говорит Мережковский. «Смиряется души моей тревога» – так говорит Лермонтов. Кому поверит читатель? И кому бы он ни поверил, не явится ли у него мысль, что Мережковский из инстинкта самосохранения, чтобы не разрушить своей симметрии, не привел важного лермонтовского стиха? Почему вообще не говорит критик обо всем этом знаменитом стихотворении, где Лермонтов видит в небесах Бога, а не Демона, своего прежнего двойника и патрона? Правда, если бы Мережковский все это вспомнил и напомнил, его игра в домино была бы не так красива.
Зато выиграла бы истина. И от нее не проиграл бы Лермонтов. Объятый пушкинским духом, вернувшись на родину, которую он любил своей странною и великою любовью, он смирился. Но есть такое смирение, для которого нужна большая действенность, чем для иного бунта. Печорин не деятель, а созерцатель жизни. Максим Максимыч более действен, чем Демон; и Лермонтов, создав образ первого, образ тихой и спокойной силы (о нем тоже упорно не упоминает Мережковский), – Лермонтов еще ярче подтвердил этим, что демонизм и сверхчеловечество далеко не исчерпывают всей его поэзии и даже не составляют ее главного, ее сути. Между маленьким Печориным и большим Максимом Максимычем, как двумя полярными точками, колеблется все творчество нашего поэта. И победил Максим Максимыч. В общем смирении Пушкина и Лермонтова есть та высшая внутренняя действенность, которую прославил Толстой в Платоне Каратаеве и которая в самом деле заслуживает славы, потому что спокойную мощь свою противопоставляет она и дарам, и ударам жизни и поднимается над нею в державной гордости человеческого духа. Именно от нее идет всякое истинное дело, всякий героизм и подвиг земной. Смирение Лермонтова совсем не означает, что он уступил жизни, согласился взять с нее дешевле, понизил свои идеальные требования. Это значит только, что, подавив свой неглубокий, внешний, навеянный бунт, он поднялся до простого, возвысился до обыкновенного.
Впрочем, Мережковский не доводит своей мысли до конца. Он делает одну уступку за другой. Единственный несмирившийся человек – это Лермонтов; но несколькими строками ниже мы читаем: «Источник Лермонтовского бунта был не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божьих с человеческим рабством» (курсивы наши). Итак, иное, более глубокое смирение, «какую-то религиозную святыню», Мережковский признает у Лермонтова возможными (на наш выраженный уже взгляд, это смирение у Лермонтова не возможность, а факт). Но это, мол, не то смирение, которого требовал Достоевский и которое сродни человеческому рабству. Во-первых, неверно и несправедливо, будто великий писатель-каторжник в своем призыве: «Смирись, гордый человек!» – требовал смиренья рабьего; Мережковский оскорбляет память Достоевского. Если даже согласиться с нашим критиком (а согласиться нельзя), что Достоевский «с полной ясностью не сумел определить», чем Христово смирение отличается от рабьего, то все же отожествлять неумелость определения, отсутствие полной ясности с призывом к рабству может позволить себе лишь тот, кто поддается соблазну играть в мысли, играть в словесное домино. Во-вторых, если Лермонтов, «во всяком случае», смирился не рабьим смирением, то для этого скудного и невинного вывода, для этой мелочи, не стоило Мережковскому и статью писать. Что Лермонтов был чужд смирению раба, в этом никто и не сомневался; но здесь нет никакого различия между Лермонтовым и остальной нашей великой литературой, которая не была бы и велика, если бы она была рабья. В этом отношении певец Демона не специфичен. Смиренность не есть смирность. И даже бунта и мятежа гражданственного, действенности эмпирической, слишком эмпирической, мог бы сколько угодно найти в нашей литературе Мережковский – он был бы доволен; и в том элементарном смысле, о котором и говорить не стоит, не смирились у нас не только Лермонтов, но и Скиталец, и Тан, и все те, кто на разные лады поэтически восклицал: «И учредительный да здравствует собор!»…
В конце концов спасительные, но обесцвечивающие «во всяком случае» и «может быть» не дают ясного ответа на вопрос, смирился или не смирился автор «Героя нашего времени», было ли последним словом его кощунство или святыня. Ибо не хочет различать Мережковский самой истины от ее миража, от подделки под нее. Ему нужно, например, показать борьбу несмирившегося (будто бы) Лермонтова с христианством, и оттого он говорит, что Лермонтов, посылая своей Вареньке список «Демона», в посвящении поэмы с негодованием несколько раз перечеркнул букву Б. – Бахметевой – и поставил Л. – Лопухиной. С негодованием зачеркнул «христианский брак», испытал «омерзение к христианскому браку». Но ведь ясно, что рукою поэта водило все, что угодно: ревность, любовь, досада, – но только не принципиальное отрицание христианского брака; и нет никаких оснований делать переход от ревнивых настроений Лермонтова, от его психологии к философии, к метафизическому отталкиванию от христианства: не Христа, а только Бахметева зачеркивал здесь Лермонтов. И напрасно ту пошлую боязнь женитьбы, в которой сознается Печорин, наш комментатор тоже считает одним из проявлений лермонтовского отвращения к таинству христианского брака. При чем здесь христианство и таинство?
Или, по Мережковскому, природу любит Лермонтов кощунственно, но это не примирено с тем, что Бога видит поэт именно тогда, когда волнуется желтеющая нива.
Отметим, что, хотя Мережковский тщательно цитирует все, что ему на потребу, он, однако, делает иногда существенные пропуски. Так, напрасно там, где говорится о действенности Лермонтова, он не привел его доказательных стихов:
Мне нужно действовать: я каждый день
Бессмертным сделать бы желал,
как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Мережковский высказал много красивых и глубоких мыслей, но в общем дал не правду, а правдоподобие и дал не концы, а средину. Лермонтов «что же, наконец, добрый или не добрый?» – спрашивает наш автор и отвечает: «И то и другое. Ни то ни другое». В такой общей форме о ком этого нельзя сказать? Кто – только злой, кто – только добрый? Каждый человек – это два. Нет такого, который был бы один. Мы все, а не только Лермонтов в борьбе Бога с Дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне; мы все всегда колеблемся. Здесь опять нет специфичности: только о большей напряженности этого колебания может идти речь по отношению к поэту Печорина и Максима Максимыча. Объяснять вослед Мережковскому такую нерешительность и раздвоенность Лермонтова легендой об ангелах, не сделавших в вечности окончательного выбора между светом и тьмою, между добром и злом, – значит объяснять не Лермонтова, а человечество, всю земную жизнь вообще. Но остается верным и тонким утверждение критика, что Лермонтов как бы помнил свое предсуществованье, свою прошлую вечность, – ему знакомо было ощущение домирного. Мережковский мог бы лишь дополнить свою мысль и еще лучше обосновать ее ссылкой на то, что поэт, «ранний плод, до времени созрелый», страдал от досрочности, от преждевременности своих настроений («я раньше начал, кончу ране»); этот всей его поэзии сопутствующий мотив досрочности не находится ли в связи с тем, что душа Лермонтова, как указывает Мережковский, начала жить раньше, чем он стал человеком, и припоминала те песни, которые когда-то пел ей ангел в небе полуночи?
Но хотя Лермонтов и помнит свою прошлую вечность, – вернувшись туда, он, однако, можно думать, не успокоился там, а хотел довершить свои земные страсти, дочувствовать свою любовь.
В своей статье Мережковский успешно спорит с Вл. Соловьевым. Но из того, что не прав Соловьев, не следует, что прав Мережковский. Можно принять или не принять его своеобразные идеи о том, что лермонтовская поэзия предчувствует некую высшую святыню плоти, что она примиряет Отца с Сыном в культе вечной Женственности, в культе Матери, что этим она уходит в стихию народную и начинает особое религиозное народничество. Можно это принять или не принять, но только несомненно следующее: ту обработку, которую наш умный критик произвел над Лермонтовым, он мог бы совершить и над любым поэтом – над Пушкиным или Некрасовым, над Кольцовым или Полонским (пришлось бы только привести другие цитаты). Лермонтов здесь ни при чем. И это несмотря на то что Мережковский, по своему неправильному обыкновению, говорит о Лермонтове не только умопостигаемом (поэте), но и эмпирическом (человеке). Вопреки такому обилию психологического и биографического материала, соотносительность Лермонтова и Мережковского все же нарушена, и первый стал последним; художник растворился в критике. Сочинитель оказался разбойником: он собою заслонил поэта, т. е. убил его. Ясно, что Лермонтов для Мережковского – только предлог или повод. А это – «разрушение эстетики»; Мережковский продолжает дело, или действенность, Писарева…
Такой действенности мы предпочли бы созерцание. На него, правда, жалуется наш истолкователь. Красиво и элегично говорит он: «Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполинский единственный цветок Victoria Regia, русская действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может. Во сне мы были как боги, а наяву людьми еще не стали. Однажды, было, спящий великан проснулся, рванулся к действию, но и действие оказалось продолжением сна – и снова рухнул великан на свой тысячелетний одр. Что, если он уже больше никогда не проснется, если это последний смертный сон?»
Как бы ни расценивать то «пробуждение спящего великана», которое в его нынешней форме не склонен одобрять и сам Мережковский, во всяком случае не хочется верить тому, что, кроме русской литературы, ничего другого русский народ дать не может; не хочется верить его смерти. А если наша литература лучше нашей действительности, то ведь в известном смысле так бывает всегда и везде. Цветет слово и темные корни свои прячет в глубине дела. И в конце концов, прекрасное слово – это прекрасное дело. Нельзя верить Мережковскому и в том, будто «глубочайшая метафизическая сущность русской литературы… – созерцательная бездейственность»; нельзя верить ему, что сон русского народа «баюкает колыбельная песня всей русской литературы»:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Это утверждение ставит Мережковского на самую границу смешного. У Гоголя помещик Костанжогло упрекает Чичикова в эстетизме: «Смотрите на поля, а не на красоту». Повинен ли Чичиков в чрезмерной любви к видам, к пейзажу? Едва ли. Наше общество не похоже на Чичикова, но есть пункт, в котором они сходятся, – это именно равнодушие к видам, к эстетике, это отсутствие созерцательной безмятежности, отсутствие того, что в своем вольном или невольном дальтонизме как раз и видит Мережковский. Когда заявляют, что нас, отравленных и ограбленных тенденциозностью, баюкает колыбельная песня эстетизма, то говорят курьезную нелепость, – и протестуют тени Чернышевского, Писарева, Базарова, и горечь проникает в бессмертные сердца неуслышанных Баратынского, Фета, Тютчева. Но не только эмпирическая правда не на стороне нашего критика: он не прав и в определении метафизического существа русской литературы. Именно в этом существе она не созерцательна – она действенна. Наша совесть и бодрость, она оправдывает жизнь, вдохновляет на дело, показывает поэзию в прозе. Она дает силы жить. Движущее, динамическое начало, она представляет собою неиссякаемый источник энергии.
Конечно, этого не может признавать Мережковский, коль скоро Пушкина даже он считает созерцателем, коль скоро он полагает, что пушкинское начало «именно сейчас достигло своего предела, победило окончательно и, победив, изнемогло». На наш взгляд, пушкинское начало в русском обществе не торжествовало. Пушкина мы еще и не прочитали как следует. Все некогда было, да и Писарев мешал, а теперь мешает Мережковский. «Не предстоит ли нам борьба с Пушкиным?» – спрашивает он. Мы бы ответили: да не будет! – если бы хоть одну минуту боялись, что это будет. Наше спасение не в борьбе с Пушкиным, а в приятии его. Это будет и приятием дорогого Мережковскому Лермонтова, потому что, кто принимает Пушкина, тот принимает все.
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Но почему же критик не цитирует «Памятника», где Пушкин говорит уже не о поэте вообще, а о самом себе и вменяет себе в заслугу именно не звуки сладкие и молитвы, а то, что он пробуждал (созерцатель дремлет, а не будит) чувства добрые, что в свой жестокий век он восславил свободу и призывал милость к падшим?
Можно интуитивно, силой субъективного проникновения, воспринять самый дух той или другой поэзии и прямо высказать свои впечатления от него, и тогда нельзя уже спорить, а только остается одному впечатлению противопоставлять другое. Импрессионизм, как и искусство вообще, лежит по ту сторону доказательств. Но ведь Мережковский хочет обосновать свое понимание, не только сказать, но и доказать его, – а в таком случае он не имеет права ограничиваться лишь теми цитатами, которые для него выгодны, и забывать о тех, которые ему противоречат. Уж если цитировать, то цитировать все. И если бы этому следовал Мережковский, то сказал ли бы он, что пушкинская «ясная лазурь» («одна ты несешься по ясной лазури») «по сравнению с глубокобездонным лермонтовским небом» казалась ему «плоской, как голубая эмаль»? Ведь на плоское сравнение неба и – что еще мертвее – женского взора с голубой эмалью дерзает не Пушкин, а именно Лермонтов. Ведь Мережковский хорошо знает, что именно последний написал эти стихи:
Как небеса, твой взор блистает
Эмалью голубой.
Не Пушкину, а Лермонтову принадлежит вся плоскость эмали… Но это – лишь характерная мелочь.
Главное же – в том, что не отдельные слова и стихи, податливые мишени цитат, а благодатное целое пушкинской поэзии не только не позволяет ославлять ее бесстрастной и созерцательной, но и приводит к совершенно противоположному взгляду. Для Пушкина, как и для Фауста, вначале было Дело.
Мало того: если к кому-нибудь и могут быть применены слова Мережковского: «в начале – буря, а в конце тишь да гладь», то именно к Лермонтову, а не к Пушкину. Мятежный Лермонтов долго искал бури, но кончил покоем. Говорить о несмиренности и несмиримости Лермонтова, хвалить его за это, противопоставлять его в этом отношении всей остальной русской литературе – значит не понимать его и ее.
По своему обыкновению, для того чтобы подтвердить мысль о вечной мятежности Лермонтова, Мережковский, несравненный маэстро цитат, властелин чужого, глубокий начетчик, цитирует много и многих – вплоть до полкового писаря. Но почему-то не удосужился он процитировать тот стих будто бы несмиренного и несмирившегося поэта, который гласит:
…смиряется души моей тревога.
Все время толкует Мережковский о несмиренности, и все время читателю сквозь эти речи явственно слышится: смиряется души моей тревога. «Один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, – Лермонтов» – так говорит Мережковский. «Смиряется души моей тревога» – так говорит Лермонтов. Кому поверит читатель? И кому бы он ни поверил, не явится ли у него мысль, что Мережковский из инстинкта самосохранения, чтобы не разрушить своей симметрии, не привел важного лермонтовского стиха? Почему вообще не говорит критик обо всем этом знаменитом стихотворении, где Лермонтов видит в небесах Бога, а не Демона, своего прежнего двойника и патрона? Правда, если бы Мережковский все это вспомнил и напомнил, его игра в домино была бы не так красива.
Зато выиграла бы истина. И от нее не проиграл бы Лермонтов. Объятый пушкинским духом, вернувшись на родину, которую он любил своей странною и великою любовью, он смирился. Но есть такое смирение, для которого нужна большая действенность, чем для иного бунта. Печорин не деятель, а созерцатель жизни. Максим Максимыч более действен, чем Демон; и Лермонтов, создав образ первого, образ тихой и спокойной силы (о нем тоже упорно не упоминает Мережковский), – Лермонтов еще ярче подтвердил этим, что демонизм и сверхчеловечество далеко не исчерпывают всей его поэзии и даже не составляют ее главного, ее сути. Между маленьким Печориным и большим Максимом Максимычем, как двумя полярными точками, колеблется все творчество нашего поэта. И победил Максим Максимыч. В общем смирении Пушкина и Лермонтова есть та высшая внутренняя действенность, которую прославил Толстой в Платоне Каратаеве и которая в самом деле заслуживает славы, потому что спокойную мощь свою противопоставляет она и дарам, и ударам жизни и поднимается над нею в державной гордости человеческого духа. Именно от нее идет всякое истинное дело, всякий героизм и подвиг земной. Смирение Лермонтова совсем не означает, что он уступил жизни, согласился взять с нее дешевле, понизил свои идеальные требования. Это значит только, что, подавив свой неглубокий, внешний, навеянный бунт, он поднялся до простого, возвысился до обыкновенного.
Впрочем, Мережковский не доводит своей мысли до конца. Он делает одну уступку за другой. Единственный несмирившийся человек – это Лермонтов; но несколькими строками ниже мы читаем: «Источник Лермонтовского бунта был не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божьих с человеческим рабством» (курсивы наши). Итак, иное, более глубокое смирение, «какую-то религиозную святыню», Мережковский признает у Лермонтова возможными (на наш выраженный уже взгляд, это смирение у Лермонтова не возможность, а факт). Но это, мол, не то смирение, которого требовал Достоевский и которое сродни человеческому рабству. Во-первых, неверно и несправедливо, будто великий писатель-каторжник в своем призыве: «Смирись, гордый человек!» – требовал смиренья рабьего; Мережковский оскорбляет память Достоевского. Если даже согласиться с нашим критиком (а согласиться нельзя), что Достоевский «с полной ясностью не сумел определить», чем Христово смирение отличается от рабьего, то все же отожествлять неумелость определения, отсутствие полной ясности с призывом к рабству может позволить себе лишь тот, кто поддается соблазну играть в мысли, играть в словесное домино. Во-вторых, если Лермонтов, «во всяком случае», смирился не рабьим смирением, то для этого скудного и невинного вывода, для этой мелочи, не стоило Мережковскому и статью писать. Что Лермонтов был чужд смирению раба, в этом никто и не сомневался; но здесь нет никакого различия между Лермонтовым и остальной нашей великой литературой, которая не была бы и велика, если бы она была рабья. В этом отношении певец Демона не специфичен. Смиренность не есть смирность. И даже бунта и мятежа гражданственного, действенности эмпирической, слишком эмпирической, мог бы сколько угодно найти в нашей литературе Мережковский – он был бы доволен; и в том элементарном смысле, о котором и говорить не стоит, не смирились у нас не только Лермонтов, но и Скиталец, и Тан, и все те, кто на разные лады поэтически восклицал: «И учредительный да здравствует собор!»…
В конце концов спасительные, но обесцвечивающие «во всяком случае» и «может быть» не дают ясного ответа на вопрос, смирился или не смирился автор «Героя нашего времени», было ли последним словом его кощунство или святыня. Ибо не хочет различать Мережковский самой истины от ее миража, от подделки под нее. Ему нужно, например, показать борьбу несмирившегося (будто бы) Лермонтова с христианством, и оттого он говорит, что Лермонтов, посылая своей Вареньке список «Демона», в посвящении поэмы с негодованием несколько раз перечеркнул букву Б. – Бахметевой – и поставил Л. – Лопухиной. С негодованием зачеркнул «христианский брак», испытал «омерзение к христианскому браку». Но ведь ясно, что рукою поэта водило все, что угодно: ревность, любовь, досада, – но только не принципиальное отрицание христианского брака; и нет никаких оснований делать переход от ревнивых настроений Лермонтова, от его психологии к философии, к метафизическому отталкиванию от христианства: не Христа, а только Бахметева зачеркивал здесь Лермонтов. И напрасно ту пошлую боязнь женитьбы, в которой сознается Печорин, наш комментатор тоже считает одним из проявлений лермонтовского отвращения к таинству христианского брака. При чем здесь христианство и таинство?
Или, по Мережковскому, природу любит Лермонтов кощунственно, но это не примирено с тем, что Бога видит поэт именно тогда, когда волнуется желтеющая нива.
Отметим, что, хотя Мережковский тщательно цитирует все, что ему на потребу, он, однако, делает иногда существенные пропуски. Так, напрасно там, где говорится о действенности Лермонтова, он не привел его доказательных стихов:
Мне нужно действовать: я каждый день
Бессмертным сделать бы желал,
как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
Мережковский высказал много красивых и глубоких мыслей, но в общем дал не правду, а правдоподобие и дал не концы, а средину. Лермонтов «что же, наконец, добрый или не добрый?» – спрашивает наш автор и отвечает: «И то и другое. Ни то ни другое». В такой общей форме о ком этого нельзя сказать? Кто – только злой, кто – только добрый? Каждый человек – это два. Нет такого, который был бы один. Мы все, а не только Лермонтов в борьбе Бога с Дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне; мы все всегда колеблемся. Здесь опять нет специфичности: только о большей напряженности этого колебания может идти речь по отношению к поэту Печорина и Максима Максимыча. Объяснять вослед Мережковскому такую нерешительность и раздвоенность Лермонтова легендой об ангелах, не сделавших в вечности окончательного выбора между светом и тьмою, между добром и злом, – значит объяснять не Лермонтова, а человечество, всю земную жизнь вообще. Но остается верным и тонким утверждение критика, что Лермонтов как бы помнил свое предсуществованье, свою прошлую вечность, – ему знакомо было ощущение домирного. Мережковский мог бы лишь дополнить свою мысль и еще лучше обосновать ее ссылкой на то, что поэт, «ранний плод, до времени созрелый», страдал от досрочности, от преждевременности своих настроений («я раньше начал, кончу ране»); этот всей его поэзии сопутствующий мотив досрочности не находится ли в связи с тем, что душа Лермонтова, как указывает Мережковский, начала жить раньше, чем он стал человеком, и припоминала те песни, которые когда-то пел ей ангел в небе полуночи?
Но хотя Лермонтов и помнит свою прошлую вечность, – вернувшись туда, он, однако, можно думать, не успокоился там, а хотел довершить свои земные страсти, дочувствовать свою любовь.
В своей статье Мережковский успешно спорит с Вл. Соловьевым. Но из того, что не прав Соловьев, не следует, что прав Мережковский. Можно принять или не принять его своеобразные идеи о том, что лермонтовская поэзия предчувствует некую высшую святыню плоти, что она примиряет Отца с Сыном в культе вечной Женственности, в культе Матери, что этим она уходит в стихию народную и начинает особое религиозное народничество. Можно это принять или не принять, но только несомненно следующее: ту обработку, которую наш умный критик произвел над Лермонтовым, он мог бы совершить и над любым поэтом – над Пушкиным или Некрасовым, над Кольцовым или Полонским (пришлось бы только привести другие цитаты). Лермонтов здесь ни при чем. И это несмотря на то что Мережковский, по своему неправильному обыкновению, говорит о Лермонтове не только умопостигаемом (поэте), но и эмпирическом (человеке). Вопреки такому обилию психологического и биографического материала, соотносительность Лермонтова и Мережковского все же нарушена, и первый стал последним; художник растворился в критике. Сочинитель оказался разбойником: он собою заслонил поэта, т. е. убил его. Ясно, что Лермонтов для Мережковского – только предлог или повод. А это – «разрушение эстетики»; Мережковский продолжает дело, или действенность, Писарева…
Такой действенности мы предпочли бы созерцание. На него, правда, жалуется наш истолкователь. Красиво и элегично говорит он: «Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполинский единственный цветок Victoria Regia, русская действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может. Во сне мы были как боги, а наяву людьми еще не стали. Однажды, было, спящий великан проснулся, рванулся к действию, но и действие оказалось продолжением сна – и снова рухнул великан на свой тысячелетний одр. Что, если он уже больше никогда не проснется, если это последний смертный сон?»
Как бы ни расценивать то «пробуждение спящего великана», которое в его нынешней форме не склонен одобрять и сам Мережковский, во всяком случае не хочется верить тому, что, кроме русской литературы, ничего другого русский народ дать не может; не хочется верить его смерти. А если наша литература лучше нашей действительности, то ведь в известном смысле так бывает всегда и везде. Цветет слово и темные корни свои прячет в глубине дела. И в конце концов, прекрасное слово – это прекрасное дело. Нельзя верить Мережковскому и в том, будто «глубочайшая метафизическая сущность русской литературы… – созерцательная бездейственность»; нельзя верить ему, что сон русского народа «баюкает колыбельная песня всей русской литературы»:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Это утверждение ставит Мережковского на самую границу смешного. У Гоголя помещик Костанжогло упрекает Чичикова в эстетизме: «Смотрите на поля, а не на красоту». Повинен ли Чичиков в чрезмерной любви к видам, к пейзажу? Едва ли. Наше общество не похоже на Чичикова, но есть пункт, в котором они сходятся, – это именно равнодушие к видам, к эстетике, это отсутствие созерцательной безмятежности, отсутствие того, что в своем вольном или невольном дальтонизме как раз и видит Мережковский. Когда заявляют, что нас, отравленных и ограбленных тенденциозностью, баюкает колыбельная песня эстетизма, то говорят курьезную нелепость, – и протестуют тени Чернышевского, Писарева, Базарова, и горечь проникает в бессмертные сердца неуслышанных Баратынского, Фета, Тютчева. Но не только эмпирическая правда не на стороне нашего критика: он не прав и в определении метафизического существа русской литературы. Именно в этом существе она не созерцательна – она действенна. Наша совесть и бодрость, она оправдывает жизнь, вдохновляет на дело, показывает поэзию в прозе. Она дает силы жить. Движущее, динамическое начало, она представляет собою неиссякаемый источник энергии.
Конечно, этого не может признавать Мережковский, коль скоро Пушкина даже он считает созерцателем, коль скоро он полагает, что пушкинское начало «именно сейчас достигло своего предела, победило окончательно и, победив, изнемогло». На наш взгляд, пушкинское начало в русском обществе не торжествовало. Пушкина мы еще и не прочитали как следует. Все некогда было, да и Писарев мешал, а теперь мешает Мережковский. «Не предстоит ли нам борьба с Пушкиным?» – спрашивает он. Мы бы ответили: да не будет! – если бы хоть одну минуту боялись, что это будет. Наше спасение не в борьбе с Пушкиным, а в приятии его. Это будет и приятием дорогого Мережковскому Лермонтова, потому что, кто принимает Пушкина, тот принимает все.
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0