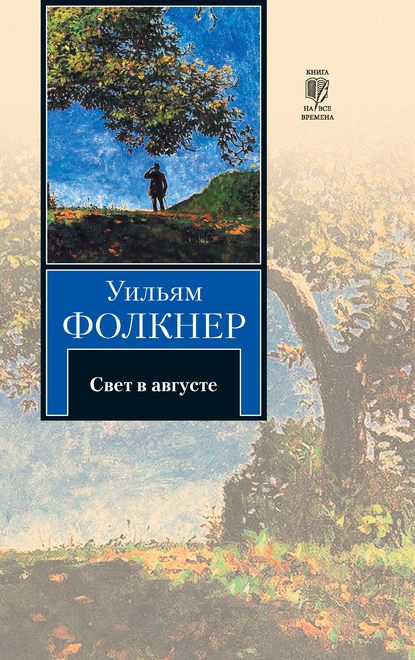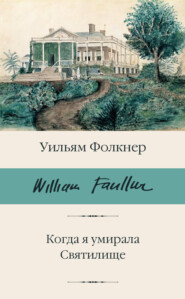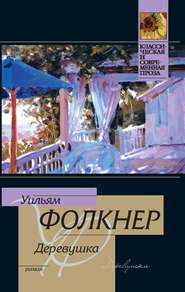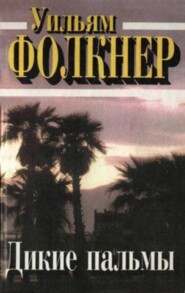По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет в августе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ночи две, – сказал Байрон. – Может, только сегодняшнюю. Надеется встретить тут мужа. Она только что пришла и не успела еще спросить, разузнать… – Тон его был все так же настойчив, многозначителен. Теперь миссис Бирд наблюдала за ним. Он думал, что она все еще пытается понять его намек. Она же, наблюдая, как он путается в словах, думала (или готова была подумать), что его замешательство имеет совсем другой смысл и причину. Затем она снова взглянула на Лину. Нельзя сказать, что холодно. Но без теплоты.
– По-моему, ей ни к чему сразу куда-то тащиться, – сказала она.
– Вот и я так думаю, – живо подхватил Байрон. – Тут эти волнения, разговоры – ей придется слушать, а она к этим волнениям, разговорам не привыкла… Если у вас сегодня все занято, может, ее в мою комнату поселить?
– Да, – сразу откликнулась миссис Бирд. – Вы ведь все равно сейчас уедете. Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернетесь?
– Сегодня я не поеду, – сказал Байрон. Он не отвел глаза. – В этот раз не смогу. – Он выдержал ее холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтет в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обман удается опытному лжецу. Но часто опытный, закоренелый лжец обманывает одного себя; легче всего верят лжи человека, который всю жизнь был каторжником собственной правдивости.
– Ага, – сказала миссис Бирд. Она опять посмотрела на Лину. – У нее нет знакомых в Джефферсоне?
– Она тут никого не знает, – сказал Байрон. – Знакомые у ней – все в Алабаме. Мистер Берч, наверное, утром появится.
– Ага, – сказала миссис Бирд. – А вы где ляжете? – Но ответа она не дождалась. – Пожалуй, я ей сегодня поставлю койку у себя в комнате. Если она не против.
– Прекрасно, – сказал Байрон. – Прекрасно.
Когда позвонили к ужину, он уже был наготове. Он улучил время переговорить с миссис Бирд. Ложь для этого он сочинял дольше, чем все предыдущее. Но она оказалась ненужной; то, что он хотел скрыть, само послужило себе прикрытием.
– Мужчины будут говорить об этом за столом, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, женщине в ее положении (притом разыскивающей мужа по фамилии Берч, – едко заметила она про себя) незачем больше слушать про мужское шалопутство. Приведете ее позже, когда они поедят.
Байрон так и сделал. Лина опять ела прилежно, с тем же серьезным, чинным прилежанием и, не успев кончить, почти уснула над тарелкой.
– Устаешь больно путешествовать-то, – объяснила она.
– Поди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю, – сказала миссис Бирд.
– Я хочу помочь, – сказала Лина. Но даже Байрон видел, что она не хочет: сон валил ее с ног.
– Поди посиди в гостиной, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку-другую.
– Я боялся оставить ее одну, – говорит Байрон. По ту сторону стола Хайтауэр не пошевелился. – И вот, когда мы там сидели, как раз в это время все выходило наружу, как раз в это время Браун у шерифа все рассказывал – про себя, про Кристмаса, про виски и про все остальное. Только виски было не такой уж новостью – с тех пор, как он взял Брауна в напарники. Я думаю, люди только одного не могли понять: почему он вообще связался с Брауном. Может быть – потому, что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих общего – только одно; потому что даже эти двое со своим общим были разными. Кристмас шел против закона, чтобы заработать, а Браун шел против закона потому, что у него ума не хватало понять, на что он идет. Как в тот вечер в парикмахерской, когда он горланил спьяну, покуда Кристмас не прибежал и не уволок его. А мистер Макси сказал: «Как вы думаете, чего это он сейчас чуть не наговорил на себя и на того?» – а капитан Мак-Лендон отвечает: «Я вообще про это не думаю», – тогда мистер Макси говорит: «Вы думаете, они правда ограбили чужой грузовик со спиртным?» И Мак-Лендон говорит: «А вас бы не удивило, если бы вам сказали, что за этим Кристмасом не водилось грехов похуже?»
Вот про что Браун рассказывал вчера вечером. Но это все знали. Давно уже говорили, что не мешало бы все-таки предупредить мисс Берден. Только, думаю, охотников не было идти туда предупреждать – никто ведь не знал, чем это кончится. Думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни ее не видал. Я, пожалуй, тоже не захотел бы идти в этот старый дом – да никто к ней и не ходил, иногда только проезжие с повозки видели, как она на дворе стоит, в таком чепце и платье, что и негритянка не каждая наденет – до того страшны. А может, она и сама знала. И, может, была не против – раз она северянка и всякое такое. И кто ее знает, чем это могло кончиться.
Словом, боялся я оставить ее одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти, в тот же вечер. Но оставить ее боялся. Жильцы по передней ходят туда-сюда – думаю, еще взбредет кому-нибудь в голову подойти – заведут про это разговор и все ей выложат; уж слышу, они про это на крыльце говорят, а она все смотрит на меня, и по лицу видно, что опять хочет спросить про пожар. Поэтому и боялся ее оставить. Сидим мы в гостиной, глаза у нее слипаются, а я ей все толкую, что найду его непременно, только мне надо пойти поговорить со знакомым священником, который может в этом деле помочь. Я ей твержу, а она сидит, глаза закрыла и не знает, что я знаю, что они с этим парнем еще не женаты. Она думала, что всех обманула. И спрашивает меня, что это за человек, которому я хочу про нее рассказать; я ей отвечаю, а она сидит с закрытыми глазами, и в конце концов я ей говорю: «Вы ни слова не слышали, что я вам говорил», – тут она вроде как встрепенулась, правда, глаз не открыла, и спрашивает: «А женить он еще может?» – я говорю: «Чего? Чего может?» – «Священник-то он, – говорит, – настоящий? Может еще женить?»
Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет; рубашка – без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое, словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос, из-за пары неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, оплыла, она обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся; опаска, желание уклониться явственно написаны на его лице.
– Байрон, – говорит он, – Байрон, что это вы мне рассказываете?
Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости.
– Я знал, что вы еще не слышали. Знал, что это на меня ляжет – рассказать вам.
– Чего же я еще не слышал?
– Про Кристмаса. Про вчерашнее и про Кристмаса. В Кристмасе есть негритянская кровь. Про него, и Брауна, и про вчерашнее.
– Негритянская кровь, – говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично – как будто перышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает – словно части его подвижны, как черты лица, – это желание уклониться, отвести от себя опасность, и Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но тон его легковесен, спокоен. – Что про Кристмаса, Брауна и вчерашнее? – произносит он.
Музыка в далекой церкви давно смолкла. В комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись, сидит за столом Хайтауэр. С параллельно лежащими на подлокотниках ладонями, до пояса скрытый столом, он напоминает восточного идола.
– Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что, когда они увидели дом, он сказал жене: больно уж много дыму идет из кухни, – потом они проехали еще немного, и жена сказала: «Дом горит». И, думаю, он, наверно, остановил повозку, и они посидели немного в повозке, поглядели на дым, и, думаю, погодя еще немного он сказал: «Похоже на то». И думаю, что это жена велела ему слезть и посмотреть. «Они не знают, что горят, – так, я думаю, она сказала. – Поди, скажи им». Он слез с повозки, поднялся на крыльцо и немного постоял там и покричал: «Эй! Эй!» Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым увидел пожар. Это был Браун. Но деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный, вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы, и деревенский ему сказал: «У вас дом горит, уважаемый», – и тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный все время твердил, что наверху никого нет и что верх все равно горит и бесполезно спасать оттуда вещи.
Но деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может – весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне. Да и слишком пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное – по тому, как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет, но потом, говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил. Потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел.
Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется, навевая дрему, несметный насекомый хор.
– Увидел, – говорит Хайтауэр. – Он увидел мисс Берден. – Он не шевелится. Байрон на него не смотрит; можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит.
– Она лежала на полу. Голова почти начисто отрезана; дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно нашел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону и шерифа тоже вызвать. Потом побежал за дом, к баку, – говорит, уже вытаскивал полное ведро, и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает. Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит, передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит, она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы.
Байрон умолкает и смотрит, бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом.
– Явился шериф, и пожарная команда явилась. Но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брандспойта. И старый дом горел весь вечер, я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой, она им сказала, написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на Севере, откуда она приехала – родня ее откуда приехала, – у ней есть племянник. Племяннику отбили телеграмму, а через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы.
А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна – все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А деревенский тот не знал, что пьяный, которого он в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали – и он и Кристмас. А потом, вечером вчера, Браун объявился. Уже трезвый – вышел часов в восемь на площадь и стал кричать как ненормальный, что это Кристмас ее убил, и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Кристмаса и докажет, что Кристмас это сделал. И тогда Браун сказал. Сказал, что, когда они с Кристмасом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва, Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Кристмаса, Кристмас ему сказал, что все время тут ночует. А потом, говорит, он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Кристмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках – к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся и – за Кристмасом, и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода – то ли, значит, его оставили для Кристмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в хибару и лег. Но не мог, говорит, уснуть – такой его смех разбирал, что хитрость у Кристмаса не удалась. Лежал он так с час примерно, а потом Кристмас вернулся. И тогда, он говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Кристмасу: «Ну, ты и прохвост». И тогда, он говорит, Кристмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Кристмасом – мол, не такой уж он, выходит дело, ловкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что если Кристмас хочет, он согласен чередоваться с ним – по неделе, в уплату за жилье.
Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Кристмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Кристмас опять собирается спать, а Кристмас вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел, а Кристмас зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Кристмас встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху, – Кристмас ему говорит. – Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Кристмас взбеленился, и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить, и тут Кристмас говорит ровным своим голосом: «Недосыпаешь ты. Слишком долго не спишь. Тебе, пожалуй, надо больше спать», – а Браун спрашивает: «На сколько больше?» – и Кристмас говорит: «Может – навсегда». И Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взбеленился и дразнить его не стоит, и сказал: «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» – а Кристмас сказал: «Не знаю. И знать не хочу. Но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал «Да».
И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Кристмас убьет мисс Берден; шериф спрашивает, – как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях, а Браун говорит, он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить – и шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху. Потому что он принялся рассказывать, что машину Кристмасу купила мисс Берден и как он уговаривал Кристмаса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду; полицейские смотрят на него, а он все быстрей и быстрей говорит, все больше, больше, что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Кристмас встал на рассвете и ушел. И он, дескать, знал, куда идет Кристмас, а часов в семь Кристмас вернулся в хибарку, стал и смотрит на Брауна. И говорит: «Я сделал это». Браун: «Что сделал?» И Кристмас говорит: «Поди в дом, посмотри».
И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело, даже не подозревал. Он говорит, от силы думал, что Кристмас мог ее избить. И говорит, что Кристмас опять вышел, а он встал, оделся и, когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит.
«В котором часу это было?» – шериф спрашивает.
«Часов в восемь, наверно, – Браун говорит. – Когда человек встает? Если он не богач. А я, видит Бог, не из них».
«А о пожаре, – шериф говорит, – сообщили только к одиннадцати. И в три часа дня дом еще горел. Вы что же, хотите сказать – старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов?»
Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они – вокруг, наблюдают за ним, кольцом окружили. Браун им: «Я вам правду говорю. Вы же сами просили». А сам туда-сюда смотрит, головой вертит. А потом чуть ли не в крик: «Почем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете – человек, который заместо негра, раба на лесопилке ишачит, такой богач, чтобы часы носить?»
«Ни на какой ты лесопилке – и вообще нигде не работаешь полтора месяца, – полицейский говорит. – И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой проехать мимо суда и время по часам заметить».
«Сказано вам, это была не моя машина! – Браун говорит. – Это его машина. Она ее купила и ему отдала – женщина отдала, которую он убил».
«Это дело десятое, – шериф говорит. – Дайте ему досказать».
И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрей, быстрей – словно Джо Браун старался спрятать за тем, что говорил про Кристмаса, – покуда Браун не улучит момент цапнуть эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное: некоторые люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги – это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что даже когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более – мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом: он только думал, как бы пожар потушить.
«И это, – шериф говорит, – было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хемпа Уолера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар». А Браун сидит между них (дверь они заперли, а окна все лицами снаружи загорожены), глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. «Хемп утверждает, что, когда он выломал дверь, в доме уже находился человек, – шериф говорит. – И что этот человек пытался не пустить его наверх». А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет.
К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше, – ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживает на этот случай. Как будто знал, что, если влипнет, это его спасет, – хотя белому человеку признаться в том, в чем он признался – едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве. «Ну конечно, – он говорит. – Валяйте, обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигера – на волю. Белого обвините, а нигер пускай бежит».
«Нигер? – шериф говорит. – Нигер?»
И тут он вроде понял, что они у него в руках. Вроде в чем бы они его ни заподозрили – все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники, – говорит. – У вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли, а я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся – и опять на него.
– По-моему, ей ни к чему сразу куда-то тащиться, – сказала она.
– Вот и я так думаю, – живо подхватил Байрон. – Тут эти волнения, разговоры – ей придется слушать, а она к этим волнениям, разговорам не привыкла… Если у вас сегодня все занято, может, ее в мою комнату поселить?
– Да, – сразу откликнулась миссис Бирд. – Вы ведь все равно сейчас уедете. Хотите, чтобы она в вашей комнате пожила до понедельника, пока вы не вернетесь?
– Сегодня я не поеду, – сказал Байрон. Он не отвел глаза. – В этот раз не смогу. – Он выдержал ее холодный и уже недоверчивый взгляд, надеясь, что она прочтет в его ответном взгляде то, что там есть, а не то, что она ему припишет. Говорят, будто обман удается опытному лжецу. Но часто опытный, закоренелый лжец обманывает одного себя; легче всего верят лжи человека, который всю жизнь был каторжником собственной правдивости.
– Ага, – сказала миссис Бирд. Она опять посмотрела на Лину. – У нее нет знакомых в Джефферсоне?
– Она тут никого не знает, – сказал Байрон. – Знакомые у ней – все в Алабаме. Мистер Берч, наверное, утром появится.
– Ага, – сказала миссис Бирд. – А вы где ляжете? – Но ответа она не дождалась. – Пожалуй, я ей сегодня поставлю койку у себя в комнате. Если она не против.
– Прекрасно, – сказал Байрон. – Прекрасно.
Когда позвонили к ужину, он уже был наготове. Он улучил время переговорить с миссис Бирд. Ложь для этого он сочинял дольше, чем все предыдущее. Но она оказалась ненужной; то, что он хотел скрыть, само послужило себе прикрытием.
– Мужчины будут говорить об этом за столом, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, женщине в ее положении (притом разыскивающей мужа по фамилии Берч, – едко заметила она про себя) незачем больше слушать про мужское шалопутство. Приведете ее позже, когда они поедят.
Байрон так и сделал. Лина опять ела прилежно, с тем же серьезным, чинным прилежанием и, не успев кончить, почти уснула над тарелкой.
– Устаешь больно путешествовать-то, – объяснила она.
– Поди посиди в гостиной, пока я тебе койку постелю, – сказала миссис Бирд.
– Я хочу помочь, – сказала Лина. Но даже Байрон видел, что она не хочет: сон валил ее с ног.
– Поди посиди в гостиной, – сказала миссис Бирд. – Я думаю, мистер Банч не откажется побыть с тобой минутку-другую.
– Я боялся оставить ее одну, – говорит Байрон. По ту сторону стола Хайтауэр не пошевелился. – И вот, когда мы там сидели, как раз в это время все выходило наружу, как раз в это время Браун у шерифа все рассказывал – про себя, про Кристмаса, про виски и про все остальное. Только виски было не такой уж новостью – с тех пор, как он взял Брауна в напарники. Я думаю, люди только одного не могли понять: почему он вообще связался с Брауном. Может быть – потому, что свой своего не только ищет, ему попросту не укрыться от своего. Даже когда у своих общего – только одно; потому что даже эти двое со своим общим были разными. Кристмас шел против закона, чтобы заработать, а Браун шел против закона потому, что у него ума не хватало понять, на что он идет. Как в тот вечер в парикмахерской, когда он горланил спьяну, покуда Кристмас не прибежал и не уволок его. А мистер Макси сказал: «Как вы думаете, чего это он сейчас чуть не наговорил на себя и на того?» – а капитан Мак-Лендон отвечает: «Я вообще про это не думаю», – тогда мистер Макси говорит: «Вы думаете, они правда ограбили чужой грузовик со спиртным?» И Мак-Лендон говорит: «А вас бы не удивило, если бы вам сказали, что за этим Кристмасом не водилось грехов похуже?»
Вот про что Браун рассказывал вчера вечером. Но это все знали. Давно уже говорили, что не мешало бы все-таки предупредить мисс Берден. Только, думаю, охотников не было идти туда предупреждать – никто ведь не знал, чем это кончится. Думаю, кое-кто из местных ни разу в жизни ее не видал. Я, пожалуй, тоже не захотел бы идти в этот старый дом – да никто к ней и не ходил, иногда только проезжие с повозки видели, как она на дворе стоит, в таком чепце и платье, что и негритянка не каждая наденет – до того страшны. А может, она и сама знала. И, может, была не против – раз она северянка и всякое такое. И кто ее знает, чем это могло кончиться.
Словом, боялся я оставить ее одну, пока она не ляжет. Я сразу хотел к вам пойти, в тот же вечер. Но оставить ее боялся. Жильцы по передней ходят туда-сюда – думаю, еще взбредет кому-нибудь в голову подойти – заведут про это разговор и все ей выложат; уж слышу, они про это на крыльце говорят, а она все смотрит на меня, и по лицу видно, что опять хочет спросить про пожар. Поэтому и боялся ее оставить. Сидим мы в гостиной, глаза у нее слипаются, а я ей все толкую, что найду его непременно, только мне надо пойти поговорить со знакомым священником, который может в этом деле помочь. Я ей твержу, а она сидит, глаза закрыла и не знает, что я знаю, что они с этим парнем еще не женаты. Она думала, что всех обманула. И спрашивает меня, что это за человек, которому я хочу про нее рассказать; я ей отвечаю, а она сидит с закрытыми глазами, и в конце концов я ей говорю: «Вы ни слова не слышали, что я вам говорил», – тут она вроде как встрепенулась, правда, глаз не открыла, и спрашивает: «А женить он еще может?» – я говорю: «Чего? Чего может?» – «Священник-то он, – говорит, – настоящий? Может еще женить?»
Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет; рубашка – без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое, словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос, из-за пары неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, оплыла, она обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся; опаска, желание уклониться явственно написаны на его лице.
– Байрон, – говорит он, – Байрон, что это вы мне рассказываете?
Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости.
– Я знал, что вы еще не слышали. Знал, что это на меня ляжет – рассказать вам.
– Чего же я еще не слышал?
– Про Кристмаса. Про вчерашнее и про Кристмаса. В Кристмасе есть негритянская кровь. Про него, и Брауна, и про вчерашнее.
– Негритянская кровь, – говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично – как будто перышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает – словно части его подвижны, как черты лица, – это желание уклониться, отвести от себя опасность, и Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но тон его легковесен, спокоен. – Что про Кристмаса, Брауна и вчерашнее? – произносит он.
Музыка в далекой церкви давно смолкла. В комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись, сидит за столом Хайтауэр. С параллельно лежащими на подлокотниках ладонями, до пояса скрытый столом, он напоминает восточного идола.
– Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что, когда они увидели дом, он сказал жене: больно уж много дыму идет из кухни, – потом они проехали еще немного, и жена сказала: «Дом горит». И, думаю, он, наверно, остановил повозку, и они посидели немного в повозке, поглядели на дым, и, думаю, погодя еще немного он сказал: «Похоже на то». И думаю, что это жена велела ему слезть и посмотреть. «Они не знают, что горят, – так, я думаю, она сказала. – Поди, скажи им». Он слез с повозки, поднялся на крыльцо и немного постоял там и покричал: «Эй! Эй!» Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым увидел пожар. Это был Браун. Но деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный, вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы, и деревенский ему сказал: «У вас дом горит, уважаемый», – и тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный все время твердил, что наверху никого нет и что верх все равно горит и бесполезно спасать оттуда вещи.
Но деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может – весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне. Да и слишком пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное – по тому, как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет, но потом, говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил. Потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел.
Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется, навевая дрему, несметный насекомый хор.
– Увидел, – говорит Хайтауэр. – Он увидел мисс Берден. – Он не шевелится. Байрон на него не смотрит; можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит.
– Она лежала на полу. Голова почти начисто отрезана; дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно нашел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону и шерифа тоже вызвать. Потом побежал за дом, к баку, – говорит, уже вытаскивал полное ведро, и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает. Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит, передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит, она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы.
Байрон умолкает и смотрит, бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом.
– Явился шериф, и пожарная команда явилась. Но сделать ничего не могла, потому что не было воды для брандспойта. И старый дом горел весь вечер, я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой, она им сказала, написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на Севере, откуда она приехала – родня ее откуда приехала, – у ней есть племянник. Племяннику отбили телеграмму, а через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы.
А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна – все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А деревенский тот не знал, что пьяный, которого он в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали – и он и Кристмас. А потом, вечером вчера, Браун объявился. Уже трезвый – вышел часов в восемь на площадь и стал кричать как ненормальный, что это Кристмас ее убил, и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Кристмаса и докажет, что Кристмас это сделал. И тогда Браун сказал. Сказал, что, когда они с Кристмасом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва, Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Кристмаса, Кристмас ему сказал, что все время тут ночует. А потом, говорит, он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как Кристмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках – к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся и – за Кристмасом, и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода – то ли, значит, его оставили для Кристмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в хибару и лег. Но не мог, говорит, уснуть – такой его смех разбирал, что хитрость у Кристмаса не удалась. Лежал он так с час примерно, а потом Кристмас вернулся. И тогда, он говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Кристмасу: «Ну, ты и прохвост». И тогда, он говорит, Кристмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Кристмасом – мол, не такой уж он, выходит дело, ловкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что если Кристмас хочет, он согласен чередоваться с ним – по неделе, в уплату за жилье.
Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Кристмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Кристмас опять собирается спать, а Кристмас вдруг чиркнул спичкой. Тогда он, говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел, а Кристмас зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал, а Кристмас встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху, – Кристмас ему говорит. – Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Кристмас взбеленился, и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить, и тут Кристмас говорит ровным своим голосом: «Недосыпаешь ты. Слишком долго не спишь. Тебе, пожалуй, надо больше спать», – а Браун спрашивает: «На сколько больше?» – и Кристмас говорит: «Может – навсегда». И Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взбеленился и дразнить его не стоит, и сказал: «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» – а Кристмас сказал: «Не знаю. И знать не хочу. Но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал «Да».
И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Кристмас убьет мисс Берден; шериф спрашивает, – как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях, а Браун говорит, он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить – и шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльце в пуху. Потому что он принялся рассказывать, что машину Кристмасу купила мисс Берден и как он уговаривал Кристмаса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду; полицейские смотрят на него, а он все быстрей и быстрей говорит, все больше, больше, что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Кристмас встал на рассвете и ушел. И он, дескать, знал, куда идет Кристмас, а часов в семь Кристмас вернулся в хибарку, стал и смотрит на Брауна. И говорит: «Я сделал это». Браун: «Что сделал?» И Кристмас говорит: «Поди в дом, посмотри».
И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело, даже не подозревал. Он говорит, от силы думал, что Кристмас мог ее избить. И говорит, что Кристмас опять вышел, а он встал, оделся и, когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит.
«В котором часу это было?» – шериф спрашивает.
«Часов в восемь, наверно, – Браун говорит. – Когда человек встает? Если он не богач. А я, видит Бог, не из них».
«А о пожаре, – шериф говорит, – сообщили только к одиннадцати. И в три часа дня дом еще горел. Вы что же, хотите сказать – старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов?»
Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они – вокруг, наблюдают за ним, кольцом окружили. Браун им: «Я вам правду говорю. Вы же сами просили». А сам туда-сюда смотрит, головой вертит. А потом чуть ли не в крик: «Почем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете – человек, который заместо негра, раба на лесопилке ишачит, такой богач, чтобы часы носить?»
«Ни на какой ты лесопилке – и вообще нигде не работаешь полтора месяца, – полицейский говорит. – И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой проехать мимо суда и время по часам заметить».
«Сказано вам, это была не моя машина! – Браун говорит. – Это его машина. Она ее купила и ему отдала – женщина отдала, которую он убил».
«Это дело десятое, – шериф говорит. – Дайте ему досказать».
И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрей, быстрей – словно Джо Браун старался спрятать за тем, что говорил про Кристмаса, – покуда Браун не улучит момент цапнуть эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное: некоторые люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги – это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что даже когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более – мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом: он только думал, как бы пожар потушить.
«И это, – шериф говорит, – было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хемпа Уолера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар». А Браун сидит между них (дверь они заперли, а окна все лицами снаружи загорожены), глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. «Хемп утверждает, что, когда он выломал дверь, в доме уже находился человек, – шериф говорит. – И что этот человек пытался не пустить его наверх». А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет.
К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше, – ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто то, что он сказал теперь, он нарочно придерживает на этот случай. Как будто знал, что, если влипнет, это его спасет, – хотя белому человеку признаться в том, в чем он признался – едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве. «Ну конечно, – он говорит. – Валяйте, обвиняйте меня. Обвините белого, который хочет вам помочь, рассказать, что знает. Обвините белого, а нигера – на волю. Белого обвините, а нигер пускай бежит».
«Нигер? – шериф говорит. – Нигер?»
И тут он вроде понял, что они у него в руках. Вроде в чем бы они его ни заподозрили – все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники, – говорит. – У вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли, а я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся – и опять на него.