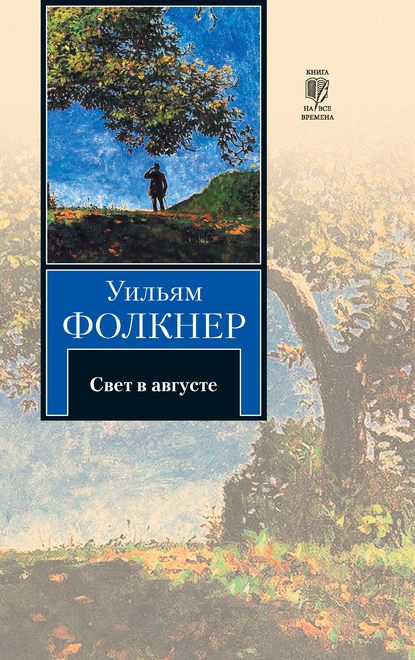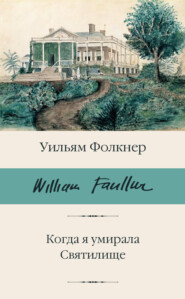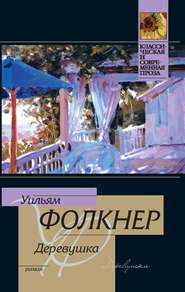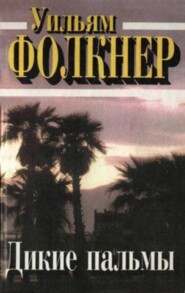По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет в августе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ему и незачем, – сказал Муни, глядя на Брауна.
И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.
– А ты чего, есть не будешь? – спросил кто-то.
– Холодные помои из сального ведерка? – сказал Браун. – С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыв час – чтобы жрать помои из жестяного ведерка.
– Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, – сказал Муни. – Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.
Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя – себя слушает.
– Дурак. Только дурак на это пойдет.
– Тебя к лопате не привязывали, – сказал Муни.
– Правильно, черт бы ее побрал, – ответил Браун.
Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.
– Ну да, ему там больше не с кем потолковать, – заметил кто-то.
– Не в этом дело, – откликнулся Муни. – Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.
– В чем?
– В том, что он еще дурее, чем я думал, – пояснил Муни.
На другое утро он не вышел.
– Теперь его адрес будет парикмахерская, – сказал один.
– Или проулок за парикмахерской, – сказал другой.
– Я думаю, мы еще разок его увидим, – сказал Муни. – Он придет получить за вчерашний день.
И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад – словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем – и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.
– Навались, рабочая скотинка! – сказал он веселым, громким, зубастым голосом.
Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.
– Ты, случаем, не меня так назвал? А? – спросил Муни.
С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, – думал Байрон.
– Я не с тобой говорю, – сказал Браун.
– А-а, понял. – Голос у Муни был мирный, ласковый. – Это ты остальных назвал скотиной.
Тут же вмешался еще один:
– Так ты это про меня?
– Я сам с собой разговаривал, – сказал Браун.
– Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду, – согласился Муни. – То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?
Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу – бесцельно, праздно, непрестанно – новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется – когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден – а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме – женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию. Северянка, негритянская доброхотка – до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением – что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не зря (по крайней мере на их взгляд) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других, в их связях с вражьими тенями, и рубежом меж них – видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.
Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него – про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.
Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени, – до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город – вернее, те, кто помнит или думает о нем, – считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина – эта. Человек так мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины – или женщины – действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина – или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно им отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает только священник Хайтауэр – что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви, – служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю, поздним вечером, Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре, – в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он – загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.
И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.
– Ну, сегодня-то Байрон уйдет, – говорили они. – Бесплатно-то пожар посмотреть.
– Пожар большой, – сказал один. – Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало – кроме дома Берденов.
– Может, это он и есть, – сказал другой. – Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.
– Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? – сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.
– Берден, – сказал шофер. – Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.
– Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.
– А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать, – сказал шофер, – то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место.
Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув – безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.
– Вы – не он, – говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.
– Да, – говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. – Похоже, что не он. А он – кто?
– Лукас Берч. Мне сказали…
– Лукас Берч?
– Мне сказали, что я его тут найду. – В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. – Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.
– Нет, – отвечает он. – Так оно и есть. Банч. Байрон Банч. – Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее – на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. – А вы – миссис Берч?
Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги – все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них – мысль, что он пытается ее обмануть.
– Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе Банча?» – ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?
Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.
И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.
– А ты чего, есть не будешь? – спросил кто-то.
– Холодные помои из сального ведерка? – сказал Браун. – С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыв час – чтобы жрать помои из жестяного ведерка.
– Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, – сказал Муни. – Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.
Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя – себя слушает.
– Дурак. Только дурак на это пойдет.
– Тебя к лопате не привязывали, – сказал Муни.
– Правильно, черт бы ее побрал, – ответил Браун.
Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.
– Ну да, ему там больше не с кем потолковать, – заметил кто-то.
– Не в этом дело, – откликнулся Муни. – Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.
– В чем?
– В том, что он еще дурее, чем я думал, – пояснил Муни.
На другое утро он не вышел.
– Теперь его адрес будет парикмахерская, – сказал один.
– Или проулок за парикмахерской, – сказал другой.
– Я думаю, мы еще разок его увидим, – сказал Муни. – Он придет получить за вчерашний день.
И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад – словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем – и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.
– Навались, рабочая скотинка! – сказал он веселым, громким, зубастым голосом.
Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.
– Ты, случаем, не меня так назвал? А? – спросил Муни.
С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, – думал Байрон.
– Я не с тобой говорю, – сказал Браун.
– А-а, понял. – Голос у Муни был мирный, ласковый. – Это ты остальных назвал скотиной.
Тут же вмешался еще один:
– Так ты это про меня?
– Я сам с собой разговаривал, – сказал Браун.
– Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду, – согласился Муни. – То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?
Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу – бесцельно, праздно, непрестанно – новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется – когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден – а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме – женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию. Северянка, негритянская доброхотка – до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением – что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не зря (по крайней мере на их взгляд) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других, в их связях с вражьими тенями, и рубежом меж них – видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.
Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него – про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.
Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени, – до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город – вернее, те, кто помнит или думает о нем, – считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина – эта. Человек так мало знает о своих ближних. В его глазах все мужчины – или женщины – действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина – или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно им отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает только священник Хайтауэр – что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви, – служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю, поздним вечером, Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре, – в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он – загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.
И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.
– Ну, сегодня-то Байрон уйдет, – говорили они. – Бесплатно-то пожар посмотреть.
– Пожар большой, – сказал один. – Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало – кроме дома Берденов.
– Может, это он и есть, – сказал другой. – Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.
– Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? – сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.
– Берден, – сказал шофер. – Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.
– Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.
– А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать, – сказал шофер, – то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место.
Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув – безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.
– Вы – не он, – говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.
– Да, – говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. – Похоже, что не он. А он – кто?
– Лукас Берч. Мне сказали…
– Лукас Берч?
– Мне сказали, что я его тут найду. – В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. – Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.
– Нет, – отвечает он. – Так оно и есть. Банч. Байрон Банч. – Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее – на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. – А вы – миссис Берч?
Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги – все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них – мысль, что он пытается ее обмануть.
– Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе Банча?» – ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?
Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.