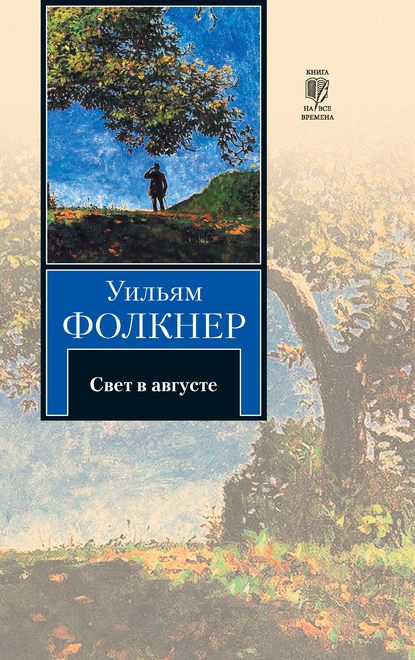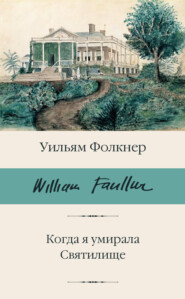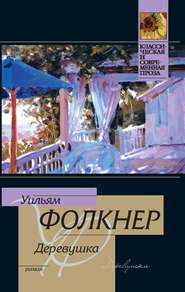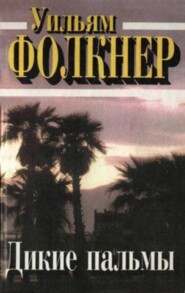По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет в августе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свет в августе
Уильям Катберт Фолкнер
Йокнапатофская сага
Американский Юг – во всей его болезненной, трагической и причудливой прелести. В романе «Свет в августе» кипят опасные и разрушительные страсти, хранятся мрачные семейные секреты, процветают расизм и жестокость, а любовь и ненависть достигают поистине античного масштаба…
Уильям Фолкнер
Свет в августе
William Faulkner
LIGHT IN AUGUST
© William Faulkner, 1932
© Перевод. В. Голышев, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009
* * *
1
Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет
Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город – на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал – потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.
Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, – в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда – хотя, может быть, и не понимала этого – на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.
Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется – потому что новое всегда можно купить в рассрочку, – и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, небороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.
Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товаропассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, и, лешим взвыв, – мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».
Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте – потому что в пристройке спали, кроме нее, сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».
Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков, – а опилочных донжуанов и подавно, – насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только: «Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», – непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые рассчитывает каждый Лукас Берч – не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже она снова выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», – подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла – ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежали, среди прочего, тридцать пять центов – пяти- и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины – его подарок. Поношены самую малость – никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.
Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся далёко – как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил – не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места – не до места, а всё подвезет – и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы.
Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула – емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась, скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повозку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.
Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути – невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать», – думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет – думает все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку – до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать. Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет – подвезет. Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».
Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботома, Армстид и Уинтерботом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.
– Интересно, откуда это у ней живот, – сказал Уинтерботом.
– Интересно, издалека ли она его несет, – сказал Армстид.
– Видать, навещала кого-то в той стороне, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.
– Видать, не просто так гуляет, – сказал Уинтерботом. – Не такая у ней походка.
– Не долго ей одной гулять, будет ей попутчик, – сказал Армстид. Женщина уже удалялась – медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы даже не взглянула на них, когда проходила мимо – в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках. – Не из ближних мест идет, – сказал Армстид. – Ишь как потопывает – верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.
– Видать, навещала кого-то в наших краях, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, пожалуй. Я бы слышал, – сказал Армстид. Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду – налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы, и, может быть, даже – из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда – приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал – для того чтобы сказать это. Предложить Уинтерботому цену за культиватор, который Уинтерботом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад. – Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену, – сказал он.
– Так ведь брать надо, – сказал Уинтерботом. – Дешевка-то какая.
– Ну да, – сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал. – Да-а, видать, домой пора собираться.
Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение – потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.
– Да, брат, – сказал он. – За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь – провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?
– Ну да, – говорит Армстид. Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит – потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами – и по-прежнему ни спят ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.
Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно – молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы – сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.
– Далеко ли идешь? – спрашивает он.
– Да вот, хотела засветло еще малость пройти, – отвечает она. Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.
– Спасибо вам, – говорит она. – Уморилась – на ногах-то.
Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже заметил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.
– Издалека ли идешь? – спрашивает он.
Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох – как бы спокойного изумления.
– А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.
– Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же семья твоя?
Она тоже на него не смотрит.
– Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.
– Лукас Берч. – Армстид произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов. – И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним охотясь?
Она отвечает не сразу. Наконец говорит:
– Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.
Уильям Катберт Фолкнер
Йокнапатофская сага
Американский Юг – во всей его болезненной, трагической и причудливой прелести. В романе «Свет в августе» кипят опасные и разрушительные страсти, хранятся мрачные семейные секреты, процветают расизм и жестокость, а любовь и ненависть достигают поистине античного масштаба…
Уильям Фолкнер
Свет в августе
William Faulkner
LIGHT IN AUGUST
© William Faulkner, 1932
© Перевод. В. Голышев, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009
* * *
1
Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет
Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город – на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал – потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.
Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, – в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда – хотя, может быть, и не понимала этого – на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.
Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется – потому что новое всегда можно купить в рассрочку, – и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, небороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.
Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товаропассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, и, лешим взвыв, – мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».
Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте – потому что в пристройке спали, кроме нее, сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».
Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков, – а опилочных донжуанов и подавно, – насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только: «Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», – непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые рассчитывает каждый Лукас Берч – не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже она снова выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», – подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла – ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежали, среди прочего, тридцать пять центов – пяти- и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины – его подарок. Поношены самую малость – никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.
Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся далёко – как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил – не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места – не до места, а всё подвезет – и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы.
Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула – емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась, скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повозку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.
Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути – невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать», – думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет – думает все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку – до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать. Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет – подвезет. Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».
Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботома, Армстид и Уинтерботом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.
– Интересно, откуда это у ней живот, – сказал Уинтерботом.
– Интересно, издалека ли она его несет, – сказал Армстид.
– Видать, навещала кого-то в той стороне, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.
– Видать, не просто так гуляет, – сказал Уинтерботом. – Не такая у ней походка.
– Не долго ей одной гулять, будет ей попутчик, – сказал Армстид. Женщина уже удалялась – медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы даже не взглянула на них, когда проходила мимо – в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках. – Не из ближних мест идет, – сказал Армстид. – Ишь как потопывает – верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.
– Видать, навещала кого-то в наших краях, – сказал Уинтерботом.
– Да нет, пожалуй. Я бы слышал, – сказал Армстид. Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду – налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы, и, может быть, даже – из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда – приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал – для того чтобы сказать это. Предложить Уинтерботому цену за культиватор, который Уинтерботом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад. – Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену, – сказал он.
– Так ведь брать надо, – сказал Уинтерботом. – Дешевка-то какая.
– Ну да, – сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал. – Да-а, видать, домой пора собираться.
Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение – потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.
– Да, брат, – сказал он. – За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь – провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?
– Ну да, – говорит Армстид. Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит – потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами – и по-прежнему ни спят ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.
Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно – молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы – сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.
– Далеко ли идешь? – спрашивает он.
– Да вот, хотела засветло еще малость пройти, – отвечает она. Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.
– Спасибо вам, – говорит она. – Уморилась – на ногах-то.
Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже заметил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.
– Издалека ли идешь? – спрашивает он.
Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох – как бы спокойного изумления.
– А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.
– Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же семья твоя?
Она тоже на него не смотрит.
– Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.
– Лукас Берч. – Армстид произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов. – И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним охотясь?
Она отвечает не сразу. Наконец говорит:
– Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.