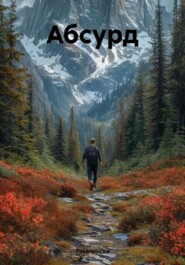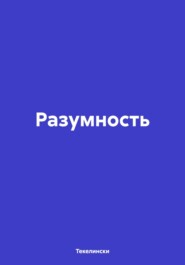По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Действительность. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Действительность. Том 1
Текелински
Философский трактат в трёх томах. Онтология, Антропология, Искусство, Психология, – эта книга включает в себя многое. Для читателя, который открывая книгу, готов не столько к развлечению, сколько к познанию, предполагающего труд размышления, от которого глубокий ум получает свою самую высшую точку наслаждения, – наслаждения открытия и победы.
Текелински
Действительность. Том 1
Расколотая реальность
Предисловие
Я писал свою книгу тринадцать лет, и за это время многое поменялось, как в окружающей меня жизни, так и в моём разуме. Эта книга есть суть олицетворение некоего становления моей мысли. Здесь словно нити, переплетались заблуждения с истинами, воплощаясь в разноцветный ковёр моего воззрения. Я бы не хотел после сказанного, отказываться от своих заблуждений, так как в определённый момент осознал, что выбрось я эти заблуждения из своего произведения, и весь ковёр рассыплется на отдельные несвязанные нити-фрагменты. Заблуждения, если они гармонично переплетены в произведении с истинами, на самом деле обеспечивают некую связующую целокупность, некую законченность общего образа философемы. Помимо прочего, если попытаться перевернуть этот «ковёр», то окажется, что те видимые с лицевой стороны нити заблуждения, вдруг ясно обозначатся на обратной стороне как истины, и наоборот, нити истин лицевой стороны, вдруг станут заблуждениями на оборотной. Такова судьба познания и его воплощения.
Эта книга не рассчитана на массового читателя, скорее на тот его небольшой круг, которому интересна глубина. На тех, кто, беря в руки книгу, надеется оплодотворить свой разум, предполагая, что для этого потребуется необходимый труд, напряжение всех функций разумения. Не думаю, что то, что развёрнуто на этих страницах будет интересно и увлечёт большое количество читателей. Ибо очевидно, что мир нашего социума стал менее философичен. Но тем ценнее в моём понимании, она будет. Ведь то, чем питается и удовлетворяется большинство, по моему глубокому убеждению, не заслуживает никакого внимания. Инстинкт большинства говорит: Философия, глубина созерцания и познания, это ненужный и даже опасный путь. Ведь на этом пути тебе не найти той полезности, которую знает большинство и к которой стремится. А главное здесь таится много того, что для большинства является враждебным и даже непреодолимым. И ты подумай хорошо, прежде чем ступать на эту дорогу, ибо обратного пути не будет. Однажды открыв эту страну, однажды попав на это поле, – вернуться, действительно будет невозможно. «Разбудив своих спящих драконов, тебе уже никогда не удастся их усыпить…». Но тот, кто всё же рискнёт, откроет для себя новый небывалый мир, в котором, как и в этом, привычном для нас всех мире, будет как много опасностей, так и множество запредельных невиданных областей и невероятных чудес, способных привести пытливую душу к непостижимому счастью, о котором нерешительный скромный обыватель, даже не подозревает.
Что есть наша действительность? Что есть наш мир? В чём сущностные основы нашей жизни и нашего мировоззрения? Этими, и подобными вопросами, люди задавались испокон веков, и будут задаваться до тех пор, пока существует орган, продуцирующий эту действительность. Мой взгляд на эту проблему не нов. Наш мир начинается иллюзией, и ей же заканчивается. Но вопрос в том, что ты вкладываешь в такое обширное понятие, как иллюзия. В моём понимании иллюзия имеет свою градацию, от пантеотектуры, воплощающейся в реальную основательность бытия, – в феноменальную картину мироздания, до чистой иллюзии сознания, как самой тонкой монады, выстраиваемой нашим разумом действительности собственного бытия, бытия воображения, порождающего все архитектонические чувствования и впечатления душевного агрегата личности, выходящие порой за всякие пределы феноменального мира, и ломающие все возможные «горизонты событий». Все наши критерии и оценки относительно реальности и достоверности окружающего мира, строятся исключительно на субъективных оценках, и к «истинной сути мира», (если представить себе таковую), не имеют никакого отношения. Всякая достоверность, какой бы она ни казалась абсолютной, опирается на веру. И одна вера отличается от другой, лишь самоопределяющимися наделами, и убеждённостью в этих наделах определённого вектора воззрения и созерцания. И здесь всё зависит лишь от отношения «оценочной ганглии» твоего сознания, к выстраиваемой другими «ганглиями» того же сознания, картине собственного мироздания и его осмысления. С одной стороны, «грубая основательность физического феноменально-эмпирического опыта», = с другой, – «тонкость опыта трансцендентального метафизического познания». Наше доверие к «доказанному», в сущности своей ничем не отличается от доверия к метафизическому и экзистенциальному. И там, и там, мы доверяем лишь определённому пантеону собственного воззрения и умозаключения. Весь вопрос лишь в достаточной очевидности «затвердевшего, окостенелого тела одного воззрения», и недостаточной очевидности другого, с телом мягким, тонким и уязвимым, – подчас запредельно-эфемерным.
И всё же иллюзия, была и остаётся единственной истинно-фундаментальной реальностью этого мира. Ибо, она и есть – само бытие. Иллюзия есть квинтэссенция всякой действительности, и основа всякой из её сторон. Действительности, которая сама по себе, в сакральных глубинах своего бытия, есть лишь «нарушение», – продукт сбоя вечной гармонии абсолютного баланса стихий архаической природы. Нарушение той безмятежной пустоты, о которой нам ничего неизвестно, и которая не может быть никак нами замечена, идентифицирована и обозначена. – Нарушение, воплощающееся в действительность бытия, в реальную действительность нашего мироздания.
В само понятие иллюзия, я вкладываю более широкое мировоззренческое осмысление, и наделяю его гораздо более глубоким смыслом, чем это принято в воззрении обывателя.C одной стороны, весь наш мир, вся наша действительность, есть лишь отражение в зеркале нашего ноумена. Некое приведение нашим «властолюбивым разумом» архаического мира хаоса к порядку, – к своему порядку. С другой стороны, наш разум, вся целокупность его динамической пантеотектурной особенности, есть воплощённый опыт внешней действительности, – «креативное олицетворение существующего самого по себе, мира». И если совершенно исключить нечто существующее вне нас, вне нашего разума, то неминуемо исчезает и само разумение. Но если исключить само разумение, то необходимо пропадает и нечто внешнее, – сама реальная действительность бытия этого мира. В конце концов, действительность, есть порождение двух противостоящих противно направленных, и не существующих по отдельности антиномий, обозначенных нами в упрощённой транскрипции сознания как объект и субъект, и воплощённых в нашем разумении в антагонистические противоположности феномена и ноумена. И не будь этого антропогенного дуализма, и мира действительности как такового, – не существовало бы вовсе. И самой иллюзии, этой Великой Стихеи бытия, не на чем было бы основываться, как в трансцендентальном и метафизическом опыте, так в эмпирическом и феноменальном.
И в продолжении этой концепции, при оценке различных воззрений, касающихся этой запредельной страны, я с полной уверенностью могу утверждать, что всякое воззрение, каким бы оно не казалось фантасмагорическим, имеет право на существование. Всякое воззрение, как бы оно не касалось своей «сферой» других воззрений, (а по большому счёту иных миров), всё же, навсегда останется единственным и неповторимым мировоззрением. И те глубокие истины, которые прячутся между строк, (а по-настоящему глубокие истины живут только между строк), могут быть замечены и рассмотрены только близкими по характерной структуризации разумами, со схожей душевной модуляцией волновой специфичности, и близкого фокуса воззренческого поля обзорности. А попросту сказать, индивидуального моделирования, и последующей ощущаемости собственного, продуцируемого разумом мироздания. И совершенно не видны, не замечаемы разумами чужеродными, пусть эти разумы и будут более гармоничны, сильны и глубоки в своих умозрениях.
В своём изложении, чувствуя пламенный холод близкой бездны, я где-то неосознанно, а где-то и намеренно делал отступления от уходящих в запределье векторов своего созерцания. Ведь если «глубина вообще», – не имеет дна, то глубина моего воззрения, его состоятельная возможность имеет свой предел. И когда ты подходишь слишком близко к этому «бездонному колодцу», необходимо отступить, чтобы не свалиться «в бездну беспредельного». Этот «колодец», подобно «чёрной дыре галактики» со своим «горизонтом событий», стоит посредине нашего умозрения и воображения, зияя бездонным зевом запределья, окаймлённым смыслом, и мы, будто планеты солнечной системы, обречены кружить вокруг него, боясь упасть и стремясь прочь, и в то же время сохраняя надежду когда-нибудь окунуться в эту пламенеющую преисподнюю. Мы ищем в мире самую сердцевину, самую общую, – главную его суть, но по большому счёту, как бы далеко не заходили в своём познании, каждому из нас суждено лишь ходить вокруг этого «бездонного колодца», но нам никогда не испить из него ни единого глотка.
Можно сказать, несколько иначе. В метафизическом контексте осмысления, ища истинную суть мира в нашей обыденной действительности, мы, словно паломники на хадже в Мекке обходящие вокруг Кааба, ходим вокруг «колодца собственного познания», стараясь подойти к его сути как можно ближе. Сначала мы подходим с одной стороны, затем с другой, и благодаря этому мир в нашем воззрении кажется бесконечно разнообразным. Но на самом деле «мир сам по себе» не имеет никакого разнообразия. Это разнообразие целиком и полностью выстраивается в наших головах. Кстати сказать, неспроста я привёл здесь именно эту традицию Ислама, ибо Кааб олицетворяет в ней дьявола, а «колодец познания», во многих культурах – преисподнюю.
Моё произведение, это лишь ещё одна безнадёжная попытка испить из этого «колодца» увидеть истинный мир, почувствовать его, и попытаться хоть как-то обозначить его наделы. Ещё один взгляд в бездну, ещё одно амбициозное желание потрогать истинную плоть мира. А по большому счёту, попытка обнаружить и вывести на свет собственный внутренний мир, рассмотреть свою собственную глубину.
Динамика написания этого произведения, – проста. Мысли, из хаотически блуждающих образов зарождались в глубине моего идеального разума, затем кодировались и формировались в некие цепочки умозаключений. И я, насколько мне позволяло моё рационально-аналитическое мышление, выстраивал затем более-менее стройные ряды собственных воплощающихся в упорядоченную конструкцию, воззрений. Вы спросите меня к какому разделу общей философии можно отнести мой труд? Скажу без капли кокетства, – не знаю. Я смотрю на него так, как смотрит мать на своё дитя. Мать не видит характерные черты лица своего ребёнка. Для неё они всегда – идеальны. В том смысле, что не поддаются никакой идентификации. Можно искренне позавидовать автору, когда он сам, смело и уверенно относит своё произведение к какому-нибудь конкретному разделу общей философии. Это говорит о том, что он достиг некоей конкретизации своего мышления, и может называть себя профессионалом.
Я бы мог отнести свой труд к антологии, гносеологии, эпистемологии, или даже гностицизму, а себя соответственно к гностикам, так как вся его полнота исходит сугубо изнутри, из собственного опыта, и не является продолжением какой-либо утверждённой философской концептуальной системности, не придерживается какой-либо зарекомендовавшей себя архаической дисциплины. К тому же одна из основных концепций моего произведения в отношении мира, как «нарушения», как сдвига, как некоей трансформации абсолютной гармонии пустоты, в относительную гармонию действительности, не далеко отходит от воззрений древних гностиков. Но и, тем не менее, этого позволить себе не могу. Ибо при всех совокупных признаках меня, как гностика, я не являюсь таковым, по сути. Так как сам «гнозис», несёт в себе всё же наличие божественного начала, как некоего присутствия. А это идёт вразрез моим воззрениям и умозаключениям относительно основ мироздания. По моему убеждению, всякое самое неопровержимое, не оскопляемое и безусловное присутствие, является лишь вершиной градации чистой иллюзии нашего разума, лишь её сверх возвышенным пантеоном. Иллюзии, без которой нет жизни как таковой, как нет её – без дыхания. Но можно ли дыхание относить к безусловному присутствию?
В этом труде можно найти, как экзистенциально-философское, так и натуралистически-эстетическое, как эмпирическое, так и трансцендентальное, как постмодернистское, так и консервативное, как наивное, так и в высшей степени запредельное. Противоречивость моего труда олицетворяет общую парадоксальность моего воззрения. Ведь воззрение, как известно, вещь сложная. И своей сложностью, оно отражает парадоксальность и сложность самого мира. Словно в системе кривых зеркал, мой мир предстаёт адекватным этой кривизне и моей внутренней архаической системности. И в силу этого, моё произведение есть сплошная антиномия. Но не всякая антиномия, как известно, является обязательным фактором ошибочного. Ибо само бытие, есть воплощённая антагонистическая антиномия.
Это произведение сохраняет в себе всю хронологическую последовательность формирования моей мысли, и моего слога. От простого и даже пошлого, к сложному и запредельному, и затем снова к простому. Оно отражает хронологию формирования всякого органистического существа. И вся начальная наивность, детская горячность, с лихвой окупается последующей серьёзностью, доходящей до холода «абсолютного ноля».
Все мои умозаключения, сложенные в относительно стройные ряды, в сути своей – интуитивны, абсолютно гипотетичны и не несут в себе почти нигде, никакой классической научной фундаментальной подложки. Как и не содержат никакой рациональной и практической полезности, как только глубоко созерцательной, – философской. Они есть воплощённый синтез идеального и рационально-аналитического мировоззрения, как неких производных продуктов от функционирующих и продуцирующих «ганглий» моего мятежного дуалистического разума. И в равной степени, как инстинктивны, так и рефлексивны, в строгом академическом смысле. Я писал так, как мог. Насколько мне позволяло на тот момент, моё образование и мои лингвистические способности. Я никогда не стремился ни к упрощению, ни к усложнению. Единственно к чему я стремился в своём изложении, так это к ясности. Хотя, вполне отдаю себе отчёт в том, что мало достиг на этом поприще. Ведь крайне сложно добиться ясности изложения в столь тёмных вопросах. Сложные вещи, очень трудно описать простым языком. А порой, это сделать просто невозможно. Я инстинктивно стремился к гармонии, подчас приукрашивая изложение своих мыслей, как мне казалось, поэтическими оборотами. И когда мне это удавалось сделать к месту и вполне гармонично, это доставляло мне удовлетворение.
В большинстве своём, вы не найдёте здесь никакой характерной литературной последовательности изложения, и тем более не найдёте абсолютной доказательной достоверности, переходящей в аподиктическую истинность. Не стоит относиться к моему произведению, как к попытке обозначить истину в последней инстанции. Всё лишь, с одной стороны, игра слов и понятий, игра смыслов и сверх смыслов, = с другой стороны, игра моего представления и воображения, игра красок оттенков и форм в выкладываемой мозаике моего умопостижения и его олицетворения. Это только мой мир, и он может лишь соприкасаться своей «искривлённой сферой» с другими мирами, высвечивая общие поля секторов мировоззрения и познания. А с иными, – не соприкасаться вовсе. Я не претендую на академическую грамотность в тех вопросах, которых коснулся на этих страницах, но я претендую на глубину и неповторимость собственного воззрения. Я не претендую на хрестоматийно правильное изложение своих мыслей, но я претендую на музыкальную уникальность слога, как олицетворение уникальности моего «идеального мышления», противостоящего столь же неповторимой «рациональной форме анализа», продуцирующих в своей синтезированной совокупности, идущий изнутри «поток полифонии всеобъемлющего интуитивно-эксплицитного знания». И пусть моя грамотность и мой слог далеки от совершенства, но всё же в моих пасквилях можно почерпнуть многое…
Вообще, всё что я здесь попытался проанализировать и описать, в сущности есть лишь поверхность того глубочайшего моря моего мировоззрения, показать глубину которого в полной его состоятельности и объёмности, у меня нет ни инструментов, ни возможностей. Всё что остаётся, это уповать на вашу фантазию, и её способность вскрывать «потаённое – необозначенное», – то, что всегда скрыто между строк, как латентное отражение сути лишь вашего идеального воззрения. Всякая книга, имеющая амбиции на глубинное содержание, имеет в себе недосказанность. А точнее сказать, имеет основой своей эту недосказанность, давая лишь нити, ведущие к глубине.
Обзор
«Как проблема отношения реальной действительности и пустоты,
есть лишь вопрос отношения определённой упорядоченности
подвластной разуму природы, к хаосу неподвластной природы,
так и проблема отношения «живого» и «неживого», есть лишь
вопрос отношения и оценки формы собственных порядков нашего ноумена,
к относительному хаосу, к отличным порядкам феноменальной природы
этой действительной реальности. Вопрос лишь соотношения, идентификации и
классификации. Ибо, для нашего трансцендентного воззрения, всякое тело мира,
всякий объект нашего познания, к какому порядку мы бы его не относили,
имеет свою собственную внутреннюю организацию, со своими алгоритмами бытия,
со своей концепцией вездесущей и повсеместной жизненности.
Организацию, лишь обозначаемую ноуменом и относящуюся им к тому,
или иному лагерю, контексту мироздания, к тому или иному пантеону, на основе
собственного созерцательного дуализма…»
Каким образом могла прийти в голову мысль о проблеме «живого» и «неживого», как о чём-то глубоко субъективном? Как? На каком этапе моего вглядывания в мир, могла зародиться эта глубоко подсознательная, и в сути своей неестественная концепция? Концепция, идущая вразрез общепринятым и даже моим собственным воззрениям. Формируясь в моём подсознании, и в какой-то момент наконец созрев, возник пошлый вопрос: а собственно, что такое «живое» и чем оно в своей глубинной сакральной сущности отличается от «неживого»? Что есть «жизнь», и что есть «не жизнь» в физическом, метафизическом и трансцендентальном осмыслении? На чём собственно базируются все наши воззрения и оценки в этом поле, и как на самом деле должны осознаваться границы и сами поля в этой сфере осмысления нашей действительности. Нет ли здесь скрытых монолитных заблуждений, переворачиваний истин и вынужденных дорог, на которых выстраивается здание нашего воззрения, и по которым следует наше мышление?
И этот вопрос как-то сам собою захватил всё моё воображение и стал на какое-то время краеугольным камнем всего моего миросозерцания. На самом деле при всей кажущейся банальности и избитости этой парадигмы, при поворачивании линз умозрения, и смене угла даже на малую толику, она становится антропоморфно критической, сугубо человеческой и глубоко проблемной. Ибо вскрывает потаённые, а точнее лежащие на поверхности, но не замечаемые нами метаморфозы. Метаморфозы, к которым мы настолько привыкли, что они превратились в нашем сознании в некую обыденную неоспоримую истину, и даже в пошлость не вызывающую никакого интереса.
Кто теперь к примеру, обращает внимание на некогда приводящие в исступление и восторг ранние продукты научно-технического прогресса? Тем более, мало интереса вызывают всякого рода антиномии природных архаизмов, имеющих глобальное значение в осмыслении нашей собственной природы. И в силу уверенности нашего разума в изрытости и просеянности этой древней почвы, мы стали не способны даже на самые поверхностные вопросы в этом ключе. Эта тема перестала быть проблемой. Наше воззрение относительно мира и природы, спаялось и слилось в монолитный конгломерат, твёрдый и незыблемый, – в «статую», на которую уже никто не обращает своего внимания, и потому несомненную и даже абсолютно истинную. Конечно, я отдаю себе отчёт в том, что, ставя так вопрос, я рискую прослыть простым безумцем. Но кто не рисковал на пути к более холодной истине, чем та, в которой все мы привыкли плавать и которой привыкли удовлетворяться.
Мы относимся к противопоставлению «живого» и «неживого», как к некоему устоявшемуся порядку, как к само-собой разумеющемуся абсолютному положению, как к непререкаемой истине божественного проведения, лишь указывающей нам своим перстом, куда нам следует идти, в какую сторону смотреть и мыслить. Мы не утруждаем себя копанием там, где, как нам кажется, не осталось ничего стоящего, – ничего, что могло бы заинтересовать наш пытливый разум. Зачем, кому нужно проникновение в суть древних, давно разрешённых вопросов? Мы спрашиваем себя; Какой в этом смысл? Здесь нет пищи для разумения, здесь всё уже давно съедено, переварено и дефецированно, – всё рассмотрено и разложено по полкам и банкам научной кунсткамеры. Какой смысл изучать и рассматривать то, что давным-давно приведено в порядок, поставлено в ряды, что и так уже достаточно лаконично просто и закончено ясно?
Мы привыкли к действительности окружающей нас, мы вытоптали хреоды собственного мышления относительно бытия, и выложили мозаику алгоритмов разумения и осмысления относительно реальной действительности, и следуем этими дорогами и алгоритмами, как единственно возможными и единственно истинными. Нам даже в голову не приходит ставить подобные вопросы. Но если попробовать отбросить условности и догматические привычки общего, и собственного индивидуального разумения, и попробовать взглянуть в мир с несколько иного угла зрения, если попытаться посмотреть на него не устоявшимся затвердевшим взглядом, но взглядом ребёнка, взглядом только что вошедшего в незнакомый дом путника, взглядом по-настоящему стороннего наблюдателя, не заинтересованного в продолжении выложенной однажды выверенной и закатанной в железобетон дороги, если, так сказать, вскрыть и заглянуть внутрь, попробовать на вкус эту древнюю и уже «распухшую консерву», то откроется иная, совершенно непривычная картина. Мир оголит свою сокровенную суть, и даже скорее всего, – перевернётся.
Вполне естественно то, что от всего этого отдаёт не столько безумием, сколько наивностью и неким неудержимым, идущим в разнос полётом фантазии. Ведь при всей холодности и серьёзности поставленного вопроса, в нём латентно укрыта великая страсть мышления, архаическая радость его удовлетворения, нарушающего собственные пределы и ломающего самые устоявшиеся стереотипы. Здесь, в сакральной глубине, скрыта та имманентная гордость разума, позволяющая ему, удовлетворятся великим чувством открывателя, разрушителя и победителя. Чувством, так естественно присущим ребёнку, с его неотягощенным моральными и социальными догмами и стереотипами, созерцанием.
Но это не эпатаж, не показное кривляние мелкой души, стремящейся лишь к непредсказуемости и противоречию ради самого противоречия. Не простое и пошлое упрямство инфантильного сердечка, которое лишь из своей вредности и ни на чём не основанного апломба, стремится разрушать ценности, не имея на то ни оснований, ни глубины собственного взгляда, ни трепета перед истинно ценными противоположными вещами. Имеющего лишь гордость тщеславия и глупую надменность, и пытающегося сформировать не собственное воззрение, но лишь собственное и общественное представление о себе самом. Нет, ничего подобного. При всей кажущейся эпатажности и апломбости, во всём этом нет ни доли узколобого инфантилизма и стремления к скоропалительной обособленности недалёкого томящегося тщеславием, духа.
И пусть этот вопрос зародился во мне именно в самых ранних годах, но расцвёл и укрепился в достаточно зрелых. Да, его первые ростки появились тогда, когда для разума наивного ребёнка всё вокруг такое яркое, первобытное и отчаянно радостное, такое сверх живое, сверхиллюзорное, и в то же время сверх реальное. Когда в силу постоянной наполняемости души впечатлениями, кажется, что время течёт крайне медленно, и потому замечается каждая мелочь, каждая деталь мироздания. И каждая эта деталь превращается в нечто эксплицитно-конкретное, нечто важное и действительно-достойное. Эти детали, которые наш разум с годами научается упускать, игнорировать как ненужный материал, смешивая ценнейшие камешки с бренной целенаправленностью, и превращая всё и вся в раствор для заливки в нужные формы. Для разума ребёнка эти детали ещё составляют важность, и яркими пятнами украшают всю палитру его бытия. И детский разум, без всяких напряжений и сомнений, спокойным не обремененным опытом взором вглядывается во всё текущее мимо него, и в нём самом. Когда его память запечатлевает очень многое, и в самых ярких и разнообразных тонах, когда его взгляд замечает все нюансы и оттенки, всё то, что не доступно опытному воззрению, с его мешками целесообразности под глазами.
Мало того, лишь в это время наш разум подобен только что собранному в дорогу каравану. Он полон сил и живости, так необходимых для остроты и полноты восприятия. Только тогда, в силу тонкости ощущений, он способен на самые глубокие проникновения в сущность вещей, в суть самого мира. Он ещё не устал от скитаний по пустыне, он ещё не отягощён полезностью, рациональностью, и целесообразностью. Он подобен стреле, только что сделанной мастером. Её жало ещё не затупилось от постоянного проникновения в плоть миро познания.
К сожалению, со временем, с увеличением познания, с набиванием тюков разумения «полезными вещами» караван жизни замедляет свой ход, и «стрела ощущений» теряет в своей остроте. После каждого опыта, её жало всё менее остро и проворно, и с этим ничего поделать нельзя. Приобретая опыт, и находя тем самым, практичную мудрость, мы необходимо теряем великую интуицию духа, теряем способность в тонких, сверх живых ощущениях жизни. Наш разум, открывая одни двери, неминуемо закрывает другие. Наш ум, постепенно тяжелеет и грубеет, но тем самым становится основательнее. От этой основательности, он дубеет и теряет в гибкости, скорости восприятия, и остроте интуитивного осмысления. Но приобретает нечто важное для себя, – относительную стабильность и власть порядка. Ибо в его понимании, только порядок, имеет несокрушимую власть над природой и миром. И его порядок, как некая доминанта в осмыслении внешнего мира, есть ныне устоявшееся и превращённое в «железобетонную конструкцию» мировоззрение, диктующее теперь всему и вся, правила и законы, присущие его конструктивным особенностям, где авангардом следует научно-технический прогресс с его «вассалами», – физикой, математикой, термодинамикой и т. п.
Если взглянуть и осмыслить исторически, возникновение и становление глобальных организаций духа и разума, зачатых в сношении рационально-практического и идеального полей разумения, то высветится некая параллель, метафорическая схожесть со всем вышеописанным, явно или завуалировано просматриваемая в зарождении и становлении науки, как таковой. Ведь собственно, и вся наука зарождалась в древности, на заре юности человечества, как интуитивное знание, присущее более чувственности разума. Её ростки такие уязвимые, такие неопределённые, ещё даже не зародыши, – эмбрионы! Но как раз в силу того, обладающие острой интуицией в своём поле, в своём ореоле воззрения и созерцания. В те далёкие времена интуитивные флюиды идеального знания, знания глубоко инстинктивного и по большей части имплицитного, достигали грандиозных высот, и на самом деле формировали фундамент всех будущих эксплицитных умозрений и умозаключений, давая направление всей последующей грандиозной, и перспективной постройке. Направление, которое в силу его древности, теперь, – как невозможно опровергнуть, так и не имеет смысла подтверждать.
Глубинные прозрения тех людей были так остры и проникновенны, о коих зрелому человечеству, – остаётся лишь мечтать. И вот это «дитя», развиваясь, со временем сформировалось в грандиозное самостоятельное «растение», трансформирующееся постепенно в «животное» с плотной кожей и крепкими костями. Сложившись, наконец, в науку с её разветвлёнными щупальцами, такими функциональными и основательными, такими перспективными и целенаправленными, такими гордыми и обещающими. Оно поработило всё мировоззрение, разлиновав его на сектора, установив клетки, и загнав всё «живое и свободное», – в резервации.
Но вот что важно. Эта основательность и функциональность, оставалась всегда и остаётся до сих пор ценностью только для «практично-рационального разума», только для его поля, для его формы выстраиваемого внешнего мира. Для другого же поля разумения, для «идеального», – всё это оставалось и остаётся, мягко говоря, плоским, грубым и пошлым. Формой «властолюбивого практично-рационального воззрения», стремящегося привести весь окружающий мир к своему целесообразному и основательному, необходимому ему, закономерному и последовательному порядку вещей. Сделать мир ценным и интересным для себя, и малоценным и мало интересным в глазах идеальных форм воззрения, – задача «практично-рационального разумения». Ведь вся та основательность и функциональность присущая «практично-рациональному разумению», которой он гордится и к которой единственно стремится, не имеют ценности для идеальной плоскости продуцирования и восприятия, в самой глубинной её возможности и способности. Формы, для которой всё, что можно потрогать, объяснить, разложить и упорядочить – слишком просто и неинтересно, слишком поверхностно и мелко. Всё, что делается для какой-то бытовой пользы, – слабо и низменно-корыстно.
Текелински
Философский трактат в трёх томах. Онтология, Антропология, Искусство, Психология, – эта книга включает в себя многое. Для читателя, который открывая книгу, готов не столько к развлечению, сколько к познанию, предполагающего труд размышления, от которого глубокий ум получает свою самую высшую точку наслаждения, – наслаждения открытия и победы.
Текелински
Действительность. Том 1
Расколотая реальность
Предисловие
Я писал свою книгу тринадцать лет, и за это время многое поменялось, как в окружающей меня жизни, так и в моём разуме. Эта книга есть суть олицетворение некоего становления моей мысли. Здесь словно нити, переплетались заблуждения с истинами, воплощаясь в разноцветный ковёр моего воззрения. Я бы не хотел после сказанного, отказываться от своих заблуждений, так как в определённый момент осознал, что выбрось я эти заблуждения из своего произведения, и весь ковёр рассыплется на отдельные несвязанные нити-фрагменты. Заблуждения, если они гармонично переплетены в произведении с истинами, на самом деле обеспечивают некую связующую целокупность, некую законченность общего образа философемы. Помимо прочего, если попытаться перевернуть этот «ковёр», то окажется, что те видимые с лицевой стороны нити заблуждения, вдруг ясно обозначатся на обратной стороне как истины, и наоборот, нити истин лицевой стороны, вдруг станут заблуждениями на оборотной. Такова судьба познания и его воплощения.
Эта книга не рассчитана на массового читателя, скорее на тот его небольшой круг, которому интересна глубина. На тех, кто, беря в руки книгу, надеется оплодотворить свой разум, предполагая, что для этого потребуется необходимый труд, напряжение всех функций разумения. Не думаю, что то, что развёрнуто на этих страницах будет интересно и увлечёт большое количество читателей. Ибо очевидно, что мир нашего социума стал менее философичен. Но тем ценнее в моём понимании, она будет. Ведь то, чем питается и удовлетворяется большинство, по моему глубокому убеждению, не заслуживает никакого внимания. Инстинкт большинства говорит: Философия, глубина созерцания и познания, это ненужный и даже опасный путь. Ведь на этом пути тебе не найти той полезности, которую знает большинство и к которой стремится. А главное здесь таится много того, что для большинства является враждебным и даже непреодолимым. И ты подумай хорошо, прежде чем ступать на эту дорогу, ибо обратного пути не будет. Однажды открыв эту страну, однажды попав на это поле, – вернуться, действительно будет невозможно. «Разбудив своих спящих драконов, тебе уже никогда не удастся их усыпить…». Но тот, кто всё же рискнёт, откроет для себя новый небывалый мир, в котором, как и в этом, привычном для нас всех мире, будет как много опасностей, так и множество запредельных невиданных областей и невероятных чудес, способных привести пытливую душу к непостижимому счастью, о котором нерешительный скромный обыватель, даже не подозревает.
Что есть наша действительность? Что есть наш мир? В чём сущностные основы нашей жизни и нашего мировоззрения? Этими, и подобными вопросами, люди задавались испокон веков, и будут задаваться до тех пор, пока существует орган, продуцирующий эту действительность. Мой взгляд на эту проблему не нов. Наш мир начинается иллюзией, и ей же заканчивается. Но вопрос в том, что ты вкладываешь в такое обширное понятие, как иллюзия. В моём понимании иллюзия имеет свою градацию, от пантеотектуры, воплощающейся в реальную основательность бытия, – в феноменальную картину мироздания, до чистой иллюзии сознания, как самой тонкой монады, выстраиваемой нашим разумом действительности собственного бытия, бытия воображения, порождающего все архитектонические чувствования и впечатления душевного агрегата личности, выходящие порой за всякие пределы феноменального мира, и ломающие все возможные «горизонты событий». Все наши критерии и оценки относительно реальности и достоверности окружающего мира, строятся исключительно на субъективных оценках, и к «истинной сути мира», (если представить себе таковую), не имеют никакого отношения. Всякая достоверность, какой бы она ни казалась абсолютной, опирается на веру. И одна вера отличается от другой, лишь самоопределяющимися наделами, и убеждённостью в этих наделах определённого вектора воззрения и созерцания. И здесь всё зависит лишь от отношения «оценочной ганглии» твоего сознания, к выстраиваемой другими «ганглиями» того же сознания, картине собственного мироздания и его осмысления. С одной стороны, «грубая основательность физического феноменально-эмпирического опыта», = с другой, – «тонкость опыта трансцендентального метафизического познания». Наше доверие к «доказанному», в сущности своей ничем не отличается от доверия к метафизическому и экзистенциальному. И там, и там, мы доверяем лишь определённому пантеону собственного воззрения и умозаключения. Весь вопрос лишь в достаточной очевидности «затвердевшего, окостенелого тела одного воззрения», и недостаточной очевидности другого, с телом мягким, тонким и уязвимым, – подчас запредельно-эфемерным.
И всё же иллюзия, была и остаётся единственной истинно-фундаментальной реальностью этого мира. Ибо, она и есть – само бытие. Иллюзия есть квинтэссенция всякой действительности, и основа всякой из её сторон. Действительности, которая сама по себе, в сакральных глубинах своего бытия, есть лишь «нарушение», – продукт сбоя вечной гармонии абсолютного баланса стихий архаической природы. Нарушение той безмятежной пустоты, о которой нам ничего неизвестно, и которая не может быть никак нами замечена, идентифицирована и обозначена. – Нарушение, воплощающееся в действительность бытия, в реальную действительность нашего мироздания.
В само понятие иллюзия, я вкладываю более широкое мировоззренческое осмысление, и наделяю его гораздо более глубоким смыслом, чем это принято в воззрении обывателя.C одной стороны, весь наш мир, вся наша действительность, есть лишь отражение в зеркале нашего ноумена. Некое приведение нашим «властолюбивым разумом» архаического мира хаоса к порядку, – к своему порядку. С другой стороны, наш разум, вся целокупность его динамической пантеотектурной особенности, есть воплощённый опыт внешней действительности, – «креативное олицетворение существующего самого по себе, мира». И если совершенно исключить нечто существующее вне нас, вне нашего разума, то неминуемо исчезает и само разумение. Но если исключить само разумение, то необходимо пропадает и нечто внешнее, – сама реальная действительность бытия этого мира. В конце концов, действительность, есть порождение двух противостоящих противно направленных, и не существующих по отдельности антиномий, обозначенных нами в упрощённой транскрипции сознания как объект и субъект, и воплощённых в нашем разумении в антагонистические противоположности феномена и ноумена. И не будь этого антропогенного дуализма, и мира действительности как такового, – не существовало бы вовсе. И самой иллюзии, этой Великой Стихеи бытия, не на чем было бы основываться, как в трансцендентальном и метафизическом опыте, так в эмпирическом и феноменальном.
И в продолжении этой концепции, при оценке различных воззрений, касающихся этой запредельной страны, я с полной уверенностью могу утверждать, что всякое воззрение, каким бы оно не казалось фантасмагорическим, имеет право на существование. Всякое воззрение, как бы оно не касалось своей «сферой» других воззрений, (а по большому счёту иных миров), всё же, навсегда останется единственным и неповторимым мировоззрением. И те глубокие истины, которые прячутся между строк, (а по-настоящему глубокие истины живут только между строк), могут быть замечены и рассмотрены только близкими по характерной структуризации разумами, со схожей душевной модуляцией волновой специфичности, и близкого фокуса воззренческого поля обзорности. А попросту сказать, индивидуального моделирования, и последующей ощущаемости собственного, продуцируемого разумом мироздания. И совершенно не видны, не замечаемы разумами чужеродными, пусть эти разумы и будут более гармоничны, сильны и глубоки в своих умозрениях.
В своём изложении, чувствуя пламенный холод близкой бездны, я где-то неосознанно, а где-то и намеренно делал отступления от уходящих в запределье векторов своего созерцания. Ведь если «глубина вообще», – не имеет дна, то глубина моего воззрения, его состоятельная возможность имеет свой предел. И когда ты подходишь слишком близко к этому «бездонному колодцу», необходимо отступить, чтобы не свалиться «в бездну беспредельного». Этот «колодец», подобно «чёрной дыре галактики» со своим «горизонтом событий», стоит посредине нашего умозрения и воображения, зияя бездонным зевом запределья, окаймлённым смыслом, и мы, будто планеты солнечной системы, обречены кружить вокруг него, боясь упасть и стремясь прочь, и в то же время сохраняя надежду когда-нибудь окунуться в эту пламенеющую преисподнюю. Мы ищем в мире самую сердцевину, самую общую, – главную его суть, но по большому счёту, как бы далеко не заходили в своём познании, каждому из нас суждено лишь ходить вокруг этого «бездонного колодца», но нам никогда не испить из него ни единого глотка.
Можно сказать, несколько иначе. В метафизическом контексте осмысления, ища истинную суть мира в нашей обыденной действительности, мы, словно паломники на хадже в Мекке обходящие вокруг Кааба, ходим вокруг «колодца собственного познания», стараясь подойти к его сути как можно ближе. Сначала мы подходим с одной стороны, затем с другой, и благодаря этому мир в нашем воззрении кажется бесконечно разнообразным. Но на самом деле «мир сам по себе» не имеет никакого разнообразия. Это разнообразие целиком и полностью выстраивается в наших головах. Кстати сказать, неспроста я привёл здесь именно эту традицию Ислама, ибо Кааб олицетворяет в ней дьявола, а «колодец познания», во многих культурах – преисподнюю.
Моё произведение, это лишь ещё одна безнадёжная попытка испить из этого «колодца» увидеть истинный мир, почувствовать его, и попытаться хоть как-то обозначить его наделы. Ещё один взгляд в бездну, ещё одно амбициозное желание потрогать истинную плоть мира. А по большому счёту, попытка обнаружить и вывести на свет собственный внутренний мир, рассмотреть свою собственную глубину.
Динамика написания этого произведения, – проста. Мысли, из хаотически блуждающих образов зарождались в глубине моего идеального разума, затем кодировались и формировались в некие цепочки умозаключений. И я, насколько мне позволяло моё рационально-аналитическое мышление, выстраивал затем более-менее стройные ряды собственных воплощающихся в упорядоченную конструкцию, воззрений. Вы спросите меня к какому разделу общей философии можно отнести мой труд? Скажу без капли кокетства, – не знаю. Я смотрю на него так, как смотрит мать на своё дитя. Мать не видит характерные черты лица своего ребёнка. Для неё они всегда – идеальны. В том смысле, что не поддаются никакой идентификации. Можно искренне позавидовать автору, когда он сам, смело и уверенно относит своё произведение к какому-нибудь конкретному разделу общей философии. Это говорит о том, что он достиг некоей конкретизации своего мышления, и может называть себя профессионалом.
Я бы мог отнести свой труд к антологии, гносеологии, эпистемологии, или даже гностицизму, а себя соответственно к гностикам, так как вся его полнота исходит сугубо изнутри, из собственного опыта, и не является продолжением какой-либо утверждённой философской концептуальной системности, не придерживается какой-либо зарекомендовавшей себя архаической дисциплины. К тому же одна из основных концепций моего произведения в отношении мира, как «нарушения», как сдвига, как некоей трансформации абсолютной гармонии пустоты, в относительную гармонию действительности, не далеко отходит от воззрений древних гностиков. Но и, тем не менее, этого позволить себе не могу. Ибо при всех совокупных признаках меня, как гностика, я не являюсь таковым, по сути. Так как сам «гнозис», несёт в себе всё же наличие божественного начала, как некоего присутствия. А это идёт вразрез моим воззрениям и умозаключениям относительно основ мироздания. По моему убеждению, всякое самое неопровержимое, не оскопляемое и безусловное присутствие, является лишь вершиной градации чистой иллюзии нашего разума, лишь её сверх возвышенным пантеоном. Иллюзии, без которой нет жизни как таковой, как нет её – без дыхания. Но можно ли дыхание относить к безусловному присутствию?
В этом труде можно найти, как экзистенциально-философское, так и натуралистически-эстетическое, как эмпирическое, так и трансцендентальное, как постмодернистское, так и консервативное, как наивное, так и в высшей степени запредельное. Противоречивость моего труда олицетворяет общую парадоксальность моего воззрения. Ведь воззрение, как известно, вещь сложная. И своей сложностью, оно отражает парадоксальность и сложность самого мира. Словно в системе кривых зеркал, мой мир предстаёт адекватным этой кривизне и моей внутренней архаической системности. И в силу этого, моё произведение есть сплошная антиномия. Но не всякая антиномия, как известно, является обязательным фактором ошибочного. Ибо само бытие, есть воплощённая антагонистическая антиномия.
Это произведение сохраняет в себе всю хронологическую последовательность формирования моей мысли, и моего слога. От простого и даже пошлого, к сложному и запредельному, и затем снова к простому. Оно отражает хронологию формирования всякого органистического существа. И вся начальная наивность, детская горячность, с лихвой окупается последующей серьёзностью, доходящей до холода «абсолютного ноля».
Все мои умозаключения, сложенные в относительно стройные ряды, в сути своей – интуитивны, абсолютно гипотетичны и не несут в себе почти нигде, никакой классической научной фундаментальной подложки. Как и не содержат никакой рациональной и практической полезности, как только глубоко созерцательной, – философской. Они есть воплощённый синтез идеального и рационально-аналитического мировоззрения, как неких производных продуктов от функционирующих и продуцирующих «ганглий» моего мятежного дуалистического разума. И в равной степени, как инстинктивны, так и рефлексивны, в строгом академическом смысле. Я писал так, как мог. Насколько мне позволяло на тот момент, моё образование и мои лингвистические способности. Я никогда не стремился ни к упрощению, ни к усложнению. Единственно к чему я стремился в своём изложении, так это к ясности. Хотя, вполне отдаю себе отчёт в том, что мало достиг на этом поприще. Ведь крайне сложно добиться ясности изложения в столь тёмных вопросах. Сложные вещи, очень трудно описать простым языком. А порой, это сделать просто невозможно. Я инстинктивно стремился к гармонии, подчас приукрашивая изложение своих мыслей, как мне казалось, поэтическими оборотами. И когда мне это удавалось сделать к месту и вполне гармонично, это доставляло мне удовлетворение.
В большинстве своём, вы не найдёте здесь никакой характерной литературной последовательности изложения, и тем более не найдёте абсолютной доказательной достоверности, переходящей в аподиктическую истинность. Не стоит относиться к моему произведению, как к попытке обозначить истину в последней инстанции. Всё лишь, с одной стороны, игра слов и понятий, игра смыслов и сверх смыслов, = с другой стороны, игра моего представления и воображения, игра красок оттенков и форм в выкладываемой мозаике моего умопостижения и его олицетворения. Это только мой мир, и он может лишь соприкасаться своей «искривлённой сферой» с другими мирами, высвечивая общие поля секторов мировоззрения и познания. А с иными, – не соприкасаться вовсе. Я не претендую на академическую грамотность в тех вопросах, которых коснулся на этих страницах, но я претендую на глубину и неповторимость собственного воззрения. Я не претендую на хрестоматийно правильное изложение своих мыслей, но я претендую на музыкальную уникальность слога, как олицетворение уникальности моего «идеального мышления», противостоящего столь же неповторимой «рациональной форме анализа», продуцирующих в своей синтезированной совокупности, идущий изнутри «поток полифонии всеобъемлющего интуитивно-эксплицитного знания». И пусть моя грамотность и мой слог далеки от совершенства, но всё же в моих пасквилях можно почерпнуть многое…
Вообще, всё что я здесь попытался проанализировать и описать, в сущности есть лишь поверхность того глубочайшего моря моего мировоззрения, показать глубину которого в полной его состоятельности и объёмности, у меня нет ни инструментов, ни возможностей. Всё что остаётся, это уповать на вашу фантазию, и её способность вскрывать «потаённое – необозначенное», – то, что всегда скрыто между строк, как латентное отражение сути лишь вашего идеального воззрения. Всякая книга, имеющая амбиции на глубинное содержание, имеет в себе недосказанность. А точнее сказать, имеет основой своей эту недосказанность, давая лишь нити, ведущие к глубине.
Обзор
«Как проблема отношения реальной действительности и пустоты,
есть лишь вопрос отношения определённой упорядоченности
подвластной разуму природы, к хаосу неподвластной природы,
так и проблема отношения «живого» и «неживого», есть лишь
вопрос отношения и оценки формы собственных порядков нашего ноумена,
к относительному хаосу, к отличным порядкам феноменальной природы
этой действительной реальности. Вопрос лишь соотношения, идентификации и
классификации. Ибо, для нашего трансцендентного воззрения, всякое тело мира,
всякий объект нашего познания, к какому порядку мы бы его не относили,
имеет свою собственную внутреннюю организацию, со своими алгоритмами бытия,
со своей концепцией вездесущей и повсеместной жизненности.
Организацию, лишь обозначаемую ноуменом и относящуюся им к тому,
или иному лагерю, контексту мироздания, к тому или иному пантеону, на основе
собственного созерцательного дуализма…»
Каким образом могла прийти в голову мысль о проблеме «живого» и «неживого», как о чём-то глубоко субъективном? Как? На каком этапе моего вглядывания в мир, могла зародиться эта глубоко подсознательная, и в сути своей неестественная концепция? Концепция, идущая вразрез общепринятым и даже моим собственным воззрениям. Формируясь в моём подсознании, и в какой-то момент наконец созрев, возник пошлый вопрос: а собственно, что такое «живое» и чем оно в своей глубинной сакральной сущности отличается от «неживого»? Что есть «жизнь», и что есть «не жизнь» в физическом, метафизическом и трансцендентальном осмыслении? На чём собственно базируются все наши воззрения и оценки в этом поле, и как на самом деле должны осознаваться границы и сами поля в этой сфере осмысления нашей действительности. Нет ли здесь скрытых монолитных заблуждений, переворачиваний истин и вынужденных дорог, на которых выстраивается здание нашего воззрения, и по которым следует наше мышление?
И этот вопрос как-то сам собою захватил всё моё воображение и стал на какое-то время краеугольным камнем всего моего миросозерцания. На самом деле при всей кажущейся банальности и избитости этой парадигмы, при поворачивании линз умозрения, и смене угла даже на малую толику, она становится антропоморфно критической, сугубо человеческой и глубоко проблемной. Ибо вскрывает потаённые, а точнее лежащие на поверхности, но не замечаемые нами метаморфозы. Метаморфозы, к которым мы настолько привыкли, что они превратились в нашем сознании в некую обыденную неоспоримую истину, и даже в пошлость не вызывающую никакого интереса.
Кто теперь к примеру, обращает внимание на некогда приводящие в исступление и восторг ранние продукты научно-технического прогресса? Тем более, мало интереса вызывают всякого рода антиномии природных архаизмов, имеющих глобальное значение в осмыслении нашей собственной природы. И в силу уверенности нашего разума в изрытости и просеянности этой древней почвы, мы стали не способны даже на самые поверхностные вопросы в этом ключе. Эта тема перестала быть проблемой. Наше воззрение относительно мира и природы, спаялось и слилось в монолитный конгломерат, твёрдый и незыблемый, – в «статую», на которую уже никто не обращает своего внимания, и потому несомненную и даже абсолютно истинную. Конечно, я отдаю себе отчёт в том, что, ставя так вопрос, я рискую прослыть простым безумцем. Но кто не рисковал на пути к более холодной истине, чем та, в которой все мы привыкли плавать и которой привыкли удовлетворяться.
Мы относимся к противопоставлению «живого» и «неживого», как к некоему устоявшемуся порядку, как к само-собой разумеющемуся абсолютному положению, как к непререкаемой истине божественного проведения, лишь указывающей нам своим перстом, куда нам следует идти, в какую сторону смотреть и мыслить. Мы не утруждаем себя копанием там, где, как нам кажется, не осталось ничего стоящего, – ничего, что могло бы заинтересовать наш пытливый разум. Зачем, кому нужно проникновение в суть древних, давно разрешённых вопросов? Мы спрашиваем себя; Какой в этом смысл? Здесь нет пищи для разумения, здесь всё уже давно съедено, переварено и дефецированно, – всё рассмотрено и разложено по полкам и банкам научной кунсткамеры. Какой смысл изучать и рассматривать то, что давным-давно приведено в порядок, поставлено в ряды, что и так уже достаточно лаконично просто и закончено ясно?
Мы привыкли к действительности окружающей нас, мы вытоптали хреоды собственного мышления относительно бытия, и выложили мозаику алгоритмов разумения и осмысления относительно реальной действительности, и следуем этими дорогами и алгоритмами, как единственно возможными и единственно истинными. Нам даже в голову не приходит ставить подобные вопросы. Но если попробовать отбросить условности и догматические привычки общего, и собственного индивидуального разумения, и попробовать взглянуть в мир с несколько иного угла зрения, если попытаться посмотреть на него не устоявшимся затвердевшим взглядом, но взглядом ребёнка, взглядом только что вошедшего в незнакомый дом путника, взглядом по-настоящему стороннего наблюдателя, не заинтересованного в продолжении выложенной однажды выверенной и закатанной в железобетон дороги, если, так сказать, вскрыть и заглянуть внутрь, попробовать на вкус эту древнюю и уже «распухшую консерву», то откроется иная, совершенно непривычная картина. Мир оголит свою сокровенную суть, и даже скорее всего, – перевернётся.
Вполне естественно то, что от всего этого отдаёт не столько безумием, сколько наивностью и неким неудержимым, идущим в разнос полётом фантазии. Ведь при всей холодности и серьёзности поставленного вопроса, в нём латентно укрыта великая страсть мышления, архаическая радость его удовлетворения, нарушающего собственные пределы и ломающего самые устоявшиеся стереотипы. Здесь, в сакральной глубине, скрыта та имманентная гордость разума, позволяющая ему, удовлетворятся великим чувством открывателя, разрушителя и победителя. Чувством, так естественно присущим ребёнку, с его неотягощенным моральными и социальными догмами и стереотипами, созерцанием.
Но это не эпатаж, не показное кривляние мелкой души, стремящейся лишь к непредсказуемости и противоречию ради самого противоречия. Не простое и пошлое упрямство инфантильного сердечка, которое лишь из своей вредности и ни на чём не основанного апломба, стремится разрушать ценности, не имея на то ни оснований, ни глубины собственного взгляда, ни трепета перед истинно ценными противоположными вещами. Имеющего лишь гордость тщеславия и глупую надменность, и пытающегося сформировать не собственное воззрение, но лишь собственное и общественное представление о себе самом. Нет, ничего подобного. При всей кажущейся эпатажности и апломбости, во всём этом нет ни доли узколобого инфантилизма и стремления к скоропалительной обособленности недалёкого томящегося тщеславием, духа.
И пусть этот вопрос зародился во мне именно в самых ранних годах, но расцвёл и укрепился в достаточно зрелых. Да, его первые ростки появились тогда, когда для разума наивного ребёнка всё вокруг такое яркое, первобытное и отчаянно радостное, такое сверх живое, сверхиллюзорное, и в то же время сверх реальное. Когда в силу постоянной наполняемости души впечатлениями, кажется, что время течёт крайне медленно, и потому замечается каждая мелочь, каждая деталь мироздания. И каждая эта деталь превращается в нечто эксплицитно-конкретное, нечто важное и действительно-достойное. Эти детали, которые наш разум с годами научается упускать, игнорировать как ненужный материал, смешивая ценнейшие камешки с бренной целенаправленностью, и превращая всё и вся в раствор для заливки в нужные формы. Для разума ребёнка эти детали ещё составляют важность, и яркими пятнами украшают всю палитру его бытия. И детский разум, без всяких напряжений и сомнений, спокойным не обремененным опытом взором вглядывается во всё текущее мимо него, и в нём самом. Когда его память запечатлевает очень многое, и в самых ярких и разнообразных тонах, когда его взгляд замечает все нюансы и оттенки, всё то, что не доступно опытному воззрению, с его мешками целесообразности под глазами.
Мало того, лишь в это время наш разум подобен только что собранному в дорогу каравану. Он полон сил и живости, так необходимых для остроты и полноты восприятия. Только тогда, в силу тонкости ощущений, он способен на самые глубокие проникновения в сущность вещей, в суть самого мира. Он ещё не устал от скитаний по пустыне, он ещё не отягощён полезностью, рациональностью, и целесообразностью. Он подобен стреле, только что сделанной мастером. Её жало ещё не затупилось от постоянного проникновения в плоть миро познания.
К сожалению, со временем, с увеличением познания, с набиванием тюков разумения «полезными вещами» караван жизни замедляет свой ход, и «стрела ощущений» теряет в своей остроте. После каждого опыта, её жало всё менее остро и проворно, и с этим ничего поделать нельзя. Приобретая опыт, и находя тем самым, практичную мудрость, мы необходимо теряем великую интуицию духа, теряем способность в тонких, сверх живых ощущениях жизни. Наш разум, открывая одни двери, неминуемо закрывает другие. Наш ум, постепенно тяжелеет и грубеет, но тем самым становится основательнее. От этой основательности, он дубеет и теряет в гибкости, скорости восприятия, и остроте интуитивного осмысления. Но приобретает нечто важное для себя, – относительную стабильность и власть порядка. Ибо в его понимании, только порядок, имеет несокрушимую власть над природой и миром. И его порядок, как некая доминанта в осмыслении внешнего мира, есть ныне устоявшееся и превращённое в «железобетонную конструкцию» мировоззрение, диктующее теперь всему и вся, правила и законы, присущие его конструктивным особенностям, где авангардом следует научно-технический прогресс с его «вассалами», – физикой, математикой, термодинамикой и т. п.
Если взглянуть и осмыслить исторически, возникновение и становление глобальных организаций духа и разума, зачатых в сношении рационально-практического и идеального полей разумения, то высветится некая параллель, метафорическая схожесть со всем вышеописанным, явно или завуалировано просматриваемая в зарождении и становлении науки, как таковой. Ведь собственно, и вся наука зарождалась в древности, на заре юности человечества, как интуитивное знание, присущее более чувственности разума. Её ростки такие уязвимые, такие неопределённые, ещё даже не зародыши, – эмбрионы! Но как раз в силу того, обладающие острой интуицией в своём поле, в своём ореоле воззрения и созерцания. В те далёкие времена интуитивные флюиды идеального знания, знания глубоко инстинктивного и по большей части имплицитного, достигали грандиозных высот, и на самом деле формировали фундамент всех будущих эксплицитных умозрений и умозаключений, давая направление всей последующей грандиозной, и перспективной постройке. Направление, которое в силу его древности, теперь, – как невозможно опровергнуть, так и не имеет смысла подтверждать.
Глубинные прозрения тех людей были так остры и проникновенны, о коих зрелому человечеству, – остаётся лишь мечтать. И вот это «дитя», развиваясь, со временем сформировалось в грандиозное самостоятельное «растение», трансформирующееся постепенно в «животное» с плотной кожей и крепкими костями. Сложившись, наконец, в науку с её разветвлёнными щупальцами, такими функциональными и основательными, такими перспективными и целенаправленными, такими гордыми и обещающими. Оно поработило всё мировоззрение, разлиновав его на сектора, установив клетки, и загнав всё «живое и свободное», – в резервации.
Но вот что важно. Эта основательность и функциональность, оставалась всегда и остаётся до сих пор ценностью только для «практично-рационального разума», только для его поля, для его формы выстраиваемого внешнего мира. Для другого же поля разумения, для «идеального», – всё это оставалось и остаётся, мягко говоря, плоским, грубым и пошлым. Формой «властолюбивого практично-рационального воззрения», стремящегося привести весь окружающий мир к своему целесообразному и основательному, необходимому ему, закономерному и последовательному порядку вещей. Сделать мир ценным и интересным для себя, и малоценным и мало интересным в глазах идеальных форм воззрения, – задача «практично-рационального разумения». Ведь вся та основательность и функциональность присущая «практично-рациональному разумению», которой он гордится и к которой единственно стремится, не имеют ценности для идеальной плоскости продуцирования и восприятия, в самой глубинной её возможности и способности. Формы, для которой всё, что можно потрогать, объяснить, разложить и упорядочить – слишком просто и неинтересно, слишком поверхностно и мелко. Всё, что делается для какой-то бытовой пользы, – слабо и низменно-корыстно.