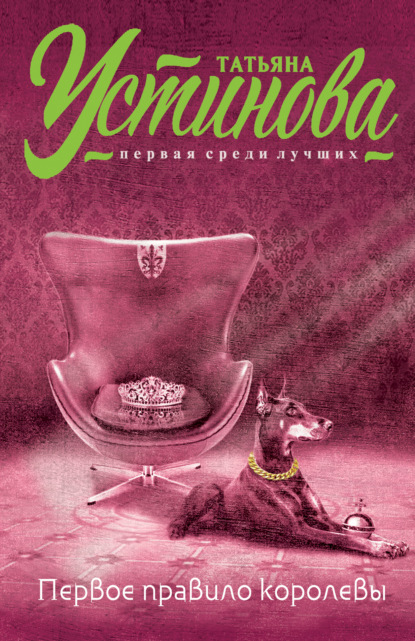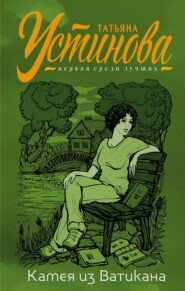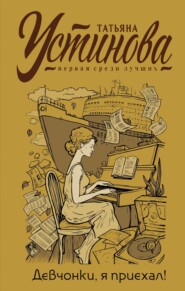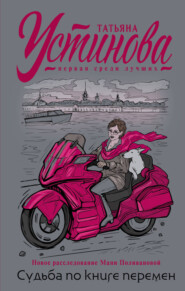По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первое правило королевы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прямо и направо оказалась кухня, неуютная, огромная, каменная. Наверное, когда-то здесь была людская или что-то в этом роде, потому что единственное окно было маленьким, почти слепым, и боковая стена образовала неудобный угол, выпирающий почти на середину, а за углом кухня как ни в чем не бывало продолжалась дальше.
– Ну вот. Здесь мы с вами можем… поговорить. Садитесь.
Инна даже не сразу поняла, куда она может сесть, а потом за выступом обнаружились стол и три стула. Инна выдвинула один.
Любовь Ивановна ходила за выступом, будто хлопотала по хозяйству, потому что звенела посуда и что-то грохало. Время от времени она появлялась у Инны перед глазами и снова пропадала.
– Вам чай? Или кофе?
Инне не хотелось ни того ни другого, ей хотелось побыстрее вырваться отсюда, как из каземата, добраться до Осипа и уехать домой, но она сказала: кофе.
Ладно. Дырка в желудке уже есть, одна чашка кофе, наверное, не слишком ее увеличит.
– Инночка, – из-за выступа проговорила Любовь Ивановна, – Толя… не стрелял в себя. Его убили.
Инна Селиверстова провела на «государевой службе» последние несколько лет. Ее зоркости и меткости мог бы позавидовать ястреб, высматривающий добычу. С самого начала она была убеждена, что Мухин «не стрелял в себя», что стрелял в него кто-то другой, но теперь, когда об этом сказала его вдова, следовало соблюдать предельную осторожность.
– Любовь Ивановна, – начала Инна, старательно подбирая слова. – Вам сейчас трудно, конечно. Но Анатолий Васильевич…
– Анатолий Васильевич не мог… застрелиться. Это просто невозможно. Я-то знаю.
Скорее всего, так оно и было. Скорее всего она действительно знала.
– Идет следствие, – еще осторожней произнесла Инна, – наверное, будет понятней, когда они разберутся.
– В чем они могут разобраться!.. – Любовь Ивановна поставила перед ней чашку. Чашка была коричневая, глиняная, с застарелыми потеками на боку. Сын Митя, ясное дело, аккуратностью не отличался.
Пола шубы сползла с колена, и Инна осторожно подобрала ее.
Любовь Ивановна вновь вынырнула из-за угла и быстро приткнулась на стул, как будто заставила себя сесть, перестать метаться. В руках у нее была салфетка, которую она скручивала в жгут.
– Пейте! – с досадой предложила вдова. – Что же вы!
– А… где ваш сын?..
– У Кати в гостинице. Она должна была увезти его с дачи. Господи, что теперь с нами будет!..
Она отпустила свой жгут и взялась за щеки.
– Ведь я просила его, я ему говорила, ради детей! Но он никогда меня не слушал, никогда! С самой молодости! Я говорила – брось, хватит! Ты всю жизнь на работе, смотри, что с сыном сделалось, а он… он…
Она не заплакала, сдержалась и опять взялась за свой жгут.
Инна сидела, затаившись. Злобный енисейский ветер бросался снегом, гремел железом на крыше, из незаклеенного окна сильно дуло в бок.
Зачем она меня позвала? У нее нет подруги? Не с кем поделиться? Но почему со мной?! И почему здесь?
Любовь Ивановна еще посидела молча, со старательным вниманием скручивая свой жгут. Концы все никак не давались, вырывались из пухлых пальцев. Инна смотрела в свою чашку, только время от времени искоса поглядывала на хозяйку.
– Я завтра улетаю, – вдруг объявила Любовь Ивановна, – я должна все отдать вам сегодня.
Инна опешила.
– Куда… улетаете?
– Куда – не спрашивают, – поправила вдова. – Примета плохая. Спрашивают – далеко ли.
– Вы… далеко?
– С Катей. В Петербург. Утренним рейсом. Что же вы не пьете? Остынет.
Инна быстро хлебнула. Кофе был слабый, невкусный.
– Я должна все отдать вам сейчас. Где же это… – Любовь Ивановна взялась за лоб. – Да, я забыла… Нет, я не могла забыть.
И она быстро вышла из кухни, пропала за темным поворотом коридора, словно не было ее.
Инна перевела дыхание, вытерла о юбку повлажневшую ладонь и огляделась. Все в этой кухне носило отпечаток запустения. Инна провела рукой по стенке серванта, посмотрела и поморщилась.
Нет, пожалуй, не запустения, решила она. Казалось, весь этот дом некоторое время пробыл под водой, и следы высохшего ила так и остались на мебели и стенах.
Батарея пустых бутылок у стены – длинногорлых, зеленых, с замысловатыми наклейками вперемешку c местной «паленой» водкой. Очевидно, на замысловатые денег хватало не всегда, хоть и губернаторский сын. Или терпения не было искать. На полках разномастные стаканы – пластмассовые, граненые и фужеры на ножках, остатки былой роскоши. Щербатая раковина, кран замотан темной тряпкой – течет, наверное. А кухонный гарнитур – итальянский, натурального дерева, добротно и любовно сработанный.
Горькое горе, наказание за грехи. И ведь не денешься никуда, не избавишься, не забудешь ни на минуту – твой крест. До самой смерти нести, ни на чьи плечи не переложить, не освободиться, не начать сначала, не переделать – этот сын никуда не годится, будем делать нового!
У Инны Селиверстовой не было детей – так уж получилось, и уже почти не осталось надежды, что появятся. Откуда они возьмутся, когда у бывшего любимого мужа «новая счастливая семейная жизнь» и именно в этой новой жизни у него и будут дети, дачи, собаки, отпуск на теплом море; у нее, Инны, теперь только одна забота – доказать всем, что ей все равно!
Я докажу вам, что мне все равно, пела Клавдия Ивановна Шульженко пятьдесят лет назад.
Инна привстала со стула и взглянула в окно. Ей хотелось увидеть Осипа и свою машину, потому что неуютно ей на этой кухне, потому что она чувствовала губернаторское наказание за грехи, как свое собственное, а она-то ни в чем не виновата! Окно выходило на другую сторону, за дом, и машины не было видно.
Что это Любовь Ивановна пропала!..
Инна посидела еще немного, открыла и закрыла крышку на телефоне, осторожно отпила глоток из глиняной чашки с потеками, поморщилась – гадко было и невкусно, – нашарила в кармане зажигалку, зачем-то переложила ее из одного кармана в другой и позвала осторожно:
– Любовь Ивановна!
Тишина в старинном сибирском купеческом доме с метровыми стенами была такая, что слышалось, как где-то далеко тикают часы.
– Любовь Ивановна! Где вы?..
Часы все тикали торопливо, как будто давились секундами. От напряжения, с которым Инна прислушивалась, казалось, что звук то появляется, то пропадает, словно кто-то ходит мимо этих самых невидимых часов, заглушает их собой.
Никто не мог там ходить! В квартире никого не было, только Любовь Ивановна, открывшая Инне дверь.
Или… был кто-то еще?..
Инна поднялась и осторожно, стараясь не цокать каблуками, подошла к двери.