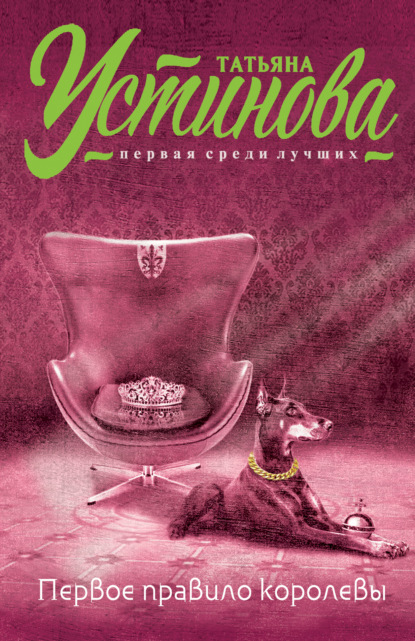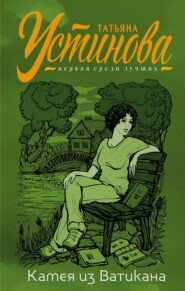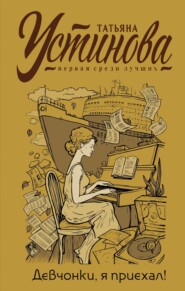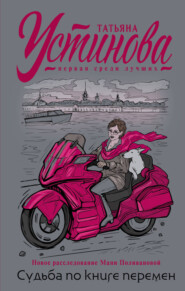По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первое правило королевы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Бледная и очень интересная», писали в каком-то романе, она запомнила.
Светлые волосы – да, безупречны. Черный жемчуг – да, уместен. Не слишком вызывающе, сдержанно и с достоинством. Пиджак. Блузка. Каблуки, на которые страшно смотреть, не то что на них стоять. Все правильно, все как надо.
– Осип Савельич! Я ухожу. Ты все-таки прими решение, здесь остаешься или домой едешь?
– Я тебя отвезу, Инна Васильна.
– Ты меня отвезешь, но только после десяти.
– Как ты в такую метель пойдешь?!.
– Мне только участок перейти.
– Дак и участок попробуй перейди, когда метет!..
– Осип Савельич, я дверь закрываю.
Джина, заподозрив самое ужасное, открыла глаза и повела ушами. Тоник злорадно ухмылялся, предвкушая, что конкурентку сейчас прогонят с нагретого коричневого меха.
– Давай-давай, – сказала Инна Джине, – ты же знаешь, что я шубу сейчас надену.
«Надень еще что-нибудь, – велела Джина, которая никогда просто так не сдавалась, – а меня оставь в покое».
Осип выдвинулся в прихожую и стал сердито натягивать ботинки.
– Домой поеду, – натянув, объявил он громко. – В полдевятого приезжать?
– В полдесятого.
– Ну, добро.
Этому «добро» Осип выучился у местного начальства, которое вслед за первым замом Якушевым любило так выражаться.
Инна переложила в кресло Джину, которая и не думала уходить с ее шубы, – та тут же спрыгнула на пол в знак протеста против насилия над личностью и пошла, недовольно дергая спиной. Только кошки умеют так выражать свое отношение к событиям – спиной.
– Ну, я пошел.
– Давай, Осип Савельич. До встречи.
Инна еще постояла перед зеркалом. Английский кашемир шарфа был приятно шелковым на ощупь. Он прикрыл волосы и сделал ее похожей на монашку.
Все хорошо. Ты справишься. Ты справилась, когда твой муж сказал тебе, что он больше не твой, а чей-то, и наплевать ему на тебя, и на самом деле ты – «самая большая ошибка его жизни», он наконец-то это понял.
Справилась.
Ей было лет восемь, родители ссорились, почти дрались за тоненькой фанерной стенкой, мать визжала: «Урод, дерьмо!!», отец тоненько скулил в ответ, что-то падало и грохотало, словно рушились стены, а она смотрела в окно – замусоренный бедный двор, полный вспученных черных луж и щепы, собачья будка у забора. Она смотрела в окно и мечтала, как уедет из дома и какая жизнь будет у нее там, куда она уедет. Почему-то она знала совершенно точно, что уедет в Москву, хотя что такое эта самая Москва – понятия не имела. Болтала ногами в валенках, а потом валенок упал, мягко шлепнулся, она помнила это совершенно точно. А потом вбежала мать.
Инна все смотрела на себя в зеркало.
Справилась, хотя ей было восемь лет и бороться она не умела. Может, тогда и научилась?
Ветер с Енисея налетел на нее, разметал европейский щегольской мех, добрался до тела, до самых костей, и костям моментально стало холодно. Придерживая рукой шарф, Инна пошла по дорожке к забору, разделяющему дачи на «зону губернатора» и «зону заместителей». Инна не была заместителем, но по какой-то там хитрой табели о рангах ее должность – начальника управления – в ряде случаев приравнивалась к заместительской, и дачу ей выделили.
«Ну, сжалились, – бухтел Осип, после трехмесячного пребывания в гостинице втаскивая в новый «казенный дом» ее чемоданы, – хорошо, что сейчас сжалились, а не через год!»
За забором, посреди метели, дремала темная машина. Машина как машина, в «Соснах» полно разных машин, преимущественно темных, поскольку «высокоранговое» начальство по неизвестным причинам уважает именно темные цвета. Инна не знала ни одного начальника, у которого машина была бы, к примеру, окрашена в желтый или голубой цвет.
Тревога, как тогда в доме, вдруг поднялась и закружилась вокруг нее вместе с енисейским ветром.
Она глянула раз, другой – и ускорила шаг.
Отсюда не разобрать, но ей показалось, что машина двинулась и теперь медленно едет за ней.
Ерунда какая-то.
Незнакомая горничная, канувшая как в омут, в метель и снег, без пальто и шапки, теперь еще эта машина!
На территории не может быть чужих, строго сказала она себе, делая над собой усилие, чтобы не оглянуться. Не то что человек, пришлый заяц не забежит незамеченным – кругом камеры, посты, заборы, что ты трясешься, куда мчишься, как этот самый заяц!
Все-таки она не выдержала и оглянулась – перед самой губернаторской калиткой.
В сумрачном колыхании снега темный силуэт уже едва-едва угадывался, но все-таки он был там, за забором.
Чья это машина? Что она делает возле Инниной дачи?
Инна открыла примерзшую калитку, вошла и привычно посмотрела в темный «глазок» камеры, чтобы охранник разглядел ее, узнал и не волновался. Не такой уж частой гостьей она была на «губернаторской» половине, но порядки знала.
Аллейка голубых елочек упиралась прямо в подъезд, приветливо, даже сквозь метель, освещенный желтыми лампочками. Двери стеклянные, занавешенные изнутри зелеными плотными шторами на латунных палках.
Советское – значит отличное. Стиль конца шестидесятых – начала семидесятых.
Более молодые – «да ранние!», как любил подковырнуть Мухин – соседствующие губернаторы, наведываясь в мухинские хоромы, посмеивались затаенно, необидно. Их собственные дома, машины и дачи так же отличались от мухинских, как наряды Жаклин Кеннеди от платьев Нины Хрущевой.
Ткань? А что, добротная, нарядная! С цветами и блестит. Вот по бокам два кармана, а на воротнике кантик. Самая дорогая, из специального ателье, в магазине такой днем с огнем не сыщешь. Покрой? И покрой отличный. Тяжеловат немножко, словно шинель пошита, а не платье, но очень даже красиво!..
Мухину было комфортно и уютно среди плотных зеленых штор, полированных деревянных панелей, желтых телефонных аппаратов с гербами, цветастых ворсистых ковров и квадратных фарфоровых соусников, в которых неизменно подавался салат «Столичный», и он никогда ничего не менял. Даже всеобщую любовь к иностранным машинам не разделял – ездил на «Волге», лишь в дальние поездки по краю отправлялся на джипе, молчаливо признав, что иностранные внедорожники все же удобней, чем «газики».
Вот такой он был, губернатор Мухин Анатолий Васильевич, и несколько дней назад он застрелился в своем кабинете между тремя и четырьмя часами ночи.
Инна поднялась по скользким ступенькам, потянула дверь и очутилась в просторном холле – посередине цветастый ковер, по краям темный наборный паркет.
– Шубочку позвольте вашу, – постным шепотом попросила из-за плеча горничная в фартуке и наколке – черной по случаю траура. Инна сунула ей «шубочку», сняла шарф и смахнула с бровей капельки растаявшего снега, которые так сверкали, что брови казались бриллиантовыми.
Странная мысль вдруг поразила ее. «Траурный» шум поминок за высокими дверьми зала ничем не отличался от шума «праздничного» – так же звенели рюмки, сыпались раскатистые мужские голоса, сновали официантки, купеческая люстра разбрызгивала нестерпимый хрустальный свет, а гости жевали тарталетки с красной икрой и копченого омуля – местный кулинарный шедевр.
Когда она вступила в зал, где ряды черных пиджаков скорбели о покойном губернаторе, в кармане ее пиджака завозился и задрожал мобильный телефон. Звук Инна предусмотрительно выключила, оставила только режим вибрации.
– Алло.