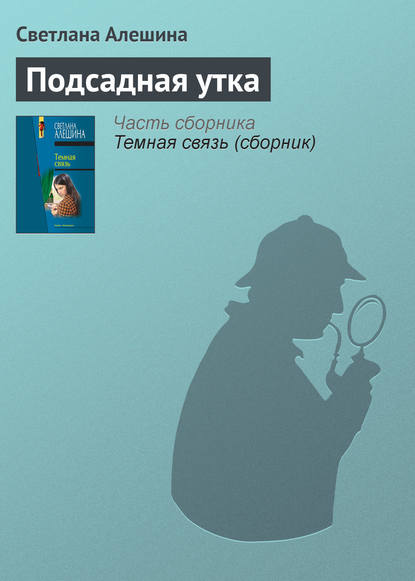По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подсадная утка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подсадная утка
Светлана Алешина
Папарацци
«…Ровно через полчаса после Катькиного звонка я стояла перед дверью ее квартиры в предвкушении сытного и вкусного обеда (Катька превосходно готовила) и чего-то «интересненького», как она выразилась. Только вот дверь она мне открывать не торопилась. Надавив на кнопку звонка еще раз, я в задумчивости опустила руку на дверную ручку. Дверь под нажимом руки подалась, и моему взору предстала ужасная картина: в прихожей ярко горела люстра, освещая чисто вымытый пол, на котором лежала Катька. Почти в самом центре груди торчала рукоятка ножа. Крови было немного, наверное, потому, что убийца не вынул нож, а оставил его в теле…»
Светлана Алешина
Подсадная утка
Глава 1
Утро выдалось пасмурное и дождливое. Да и что удивляться – конец октября. На родине Харольда, в Германии, в это время тоже идут дожди, люди также поднимают воротники своих плащей и курток и также в целях согрева балуются спиртным.
Хотя надо заметить, что Харольд был ранее гражданином дружественной нам в эпоху застоя Восточной Германии. Но с тех пор, как две Германии усилиями Горбачева и всего мирового сообщества удалось соединить в одно целое, Харольд успел нахвататься западной мудрости своих немецких братьев, от которых его с такой нелепой жестокостью отделяла знаменитая Берлинская стена. Отец Харольда, будучи соотечественником Шопена, приехал в Германию из Кракова. Познакомившись с некой Ханной Шлессер, он вскоре женился на ней. Ханна обитала вдвоем с мамой в симпатичном домике на окраине Лейпцига. Таким образом Харольду посчастливилось стать земляком Баха. Харольд не посрамил своего родного Лейпцига, он прекрасно разбирался в музыке, хотя в его суждениях о том или ином музыканте порой слышалась интонация пресыщенного чванливого сноба. Он объяснял это самому себе следствием высокоразвитого утонченного вкуса и крайне острой восприимчивостью, которая заставляла его с отчаянной силой страдать, когда, например, соната Баха си-минор – светлая грустная мелодия – исполнялась недостаточно проникновенно, вдумчиво и тонко.
Тарасовские оркестры Харольд ненавидел лютой ненавистью. Его пылкое сердце поэта и меломана негодовало по поводу присущей им топорной манеры исполнения произведений его гениальных соотечественников. Тем не менее он покупал дешевые аудиокассеты с записями концертов классической музыки, руководствуясь непонятно каким мотивом. Здесь его хваленая немецкая прагматичность уступала напору его немецкого романтического духа, родственного дерзким порывам Новалиса и Гофмана проникнуть в святую святых героической сказочной метафизики, замешанной на терпкой барочной символике.
Харольд работал журналистом в местной лейпцигской газете. Его многопрофильный талант позволял ему освещать в газете сразу несколько рубрик – экономическую, социальную и культурную. Лет восемь назад он решил подвизаться на творческих командировках в восточном направлении. Его польские корни влекли его к братьям-славянам. Этот смутный, но неотступный зов, звучавший в его душе подобно легкому и поэтичному анданте Моцарта, заставил его на несколько лет переехать в Россию, где он неплохо выучил русский язык, хотя никак не мог избавиться от характерного немецкого акцента и нередко путал склонения и спряжения глаголов. Он побывал в Татарстане, Узбекистане, Тюмени, на Дальнем Востоке и нигде не посрамил почетного звания журналиста местной лейпцигской газеты.
В Тарасов Харольда привели его немецкие корни, которые, несмотря на время и расстояние, тесно сплелись с корнями поволжских немцев. Он возглавлял отдел культуры в газете «Немцы Поволжья», редакция которой располагалась в тарасовском «Немецком доме».
Проведя вечер и часть ночи с одной из местных красоток, Харольд вторую половину ночи беспокойно проворочался, но так и не уснул. В двухкомнатной комфортабельной квартире, снятой им на улице Шевченко, стояла теплая (благодаря включенному отоплению) тишина. Уже начало светать, а серые глаза Харольда по-прежнему смотрели в потолок. Он никак не мог понять, откуда эта бессонница. Выпитый кагор, задушевные разговоры, воспоминания о Лейпциге, хороший секс – казалось, что еще надо для отличного крепкого сна? Ан нет! Сексом Харольд занимался так же охотно, как и плаваньем, и чувства испытывал примерно такие же, как при удачном заплыве. Порой эти непонятные славянам по своей северной простоте чувства имели оттенок спокойного удовлетворения, какое, например, Харольд испытывал после порции хорошо приготовленных пельменей или ежеутренней и ежевечерней чистки зубов. Девушек он использовал наподобие зубных щеток, призванных обеспечить ему свежее дыхание, отличное самочувствие и бодрый жизнерадостный настрой. Для здоровья, одним словом, физического и морального.
Это не исключало интеллектуальных бесед, совместного прослушивания какой-нибудь фуги Баха, разговоров на исторические, культурные или этнические темы с широким обсуждением наболевших проблем. Но конечный результат был один и тот же – насладившись со знанием дела спелым телом очередной студентки или парикмахерши, Харольд вызывал ей такси. Он предпочитал спать один. Довольно узкая кровать, на которой с трудом умещалось его огромное сильное тело, была лишь дополнительным мотивом для таких ночных проводов девушек, самые наивные из которых были уже близки к мысли, что им удалось навсегда пленить закаленное в условиях эмоциональной мерзлоты и глухоты сердце «белокурой бестии».
Но не тут-то было: Харольд был неуязвим для прекрасных глаз и стройных тел наших предприимчивых соотечественниц. Короткие красивые романы были его хобби. Романтика причудливо сочеталась в его образе жизни с самой заурядной капиталистической заботой о здоровье, поэтому эта затяжная бессонница, рисовавшая под его глазами темные круги, не на шутку обеспокоила его. Не в силах больше валяться в кровати, он встал, натянул синий махровый халат и взял с полки плеер. Вставил кассету с «Временами года» Вивальди и, плюхнувшись в глубокое низкое кресло, принялся слушать. Часы на стене показывали без пяти шесть.
«Вивальди слишком патетичен для шести утра», – подумал он и сменил «Времена года» на Шопена.
Глаза Харольда непроизвольно закрылись, он погрузился в созерцание причудливого плетения шопеновской меланхолии. Харольду чудился запорошенный снегом старый замок, стаи белых хлопьев кружились в такт неспешной грустной мелодии, льющейся из-под пальцев Ван Клиберна. Незаметно тихая нежная мелодия стала соскальзывать со слуховой оси Харольда в сонное безмолвие. На периферии сознания еще трепетали легкие, как садящиеся на кровлю заброшенного замка снежинки, аккорды. Харольд казался самому себе снеговой громадой, медленно уходящей под воду. Еще одна нота, о, как она дрожит, навстречу ей спешит другая, смывающая первую, как приятно она щекочет слух, как…
Дверной звонок смел тягучую грусть шопеновской сонаты. Харольд вздрогнул и открыл глаза. В комнате было светло. Раздвинутые шторы позволяли утру беспрепятственно проникать в комнату. Серое небо без всякого любопытства заглядывало в нее. Часы показывали половину одиннадцатого.
Харольд поспешил в прихожую. Звонок заголосил с новой силой. «Какого черта поставили такой резкий звонок?» – мысленно задался вопросом Харольд, подходя к двери. «Глазка» не было.
– Кто? – опасливо спросил он.
– Доброе утро, это я, – ответил глухой мужской голос, – мы с вами вчера по телефону договаривались насчет одной вещички.
– А, Гера, – голос Харольда потеплел, – сейчас, подожди.
Харольд отпер пару «трудных» замков и впустил визитера.
* * *
Сегодня мне предстояло посетить «Немецкий дом», где должен был играть приехавший в Тарасов струнный квартет из Берлина; после концерта предполагался фуршет в «неформальной» обстановке.
Я сидела в удобном кресле элитного «Имидж-салона», носящем имя своего основателя и ведущего стилиста Артема Повелко, а над моей головой колдовала мастер салона Любаша Чуркина, создавая мне прическу в стиле «Гранж». Дело подходило к концу, и я уже представляла себя этакой раскрепощенной дивой, пренебрегающей условностями, каковой, впрочем, в глубине души и была.
Просторный зал салона своими модерновыми креслами с гидравлическими подъемниками и колонками для мойки несколько напоминал стоматологический кабинет. Высокие зеркала без рам, закрепленные меж массивными никелированными стойками, лишь немного приглушали это впечатление. Да еще картина на голой белой стене, изображавшая двух задумавшихся ангелочков с маленькими, как у воробышек, крылышками и одинокая пальма в белой пластиковой кадке.
Музыка из фильма «Криминальное чтиво», под которую танцевали герои Траволты и Турман, доносившаяся из спрятанных где-то динамиков, то и дело прерывалась рекламой, примерно с такими словами:
А кто нам может жить красиво запретить:
Стирать и гладить, жарить мясо и варить?..
И так далее… Я представила себе нашу продвинутую домохозяйку, которая просто тащится только от того, что стирает в супермашине «Индезит» или даже испытывает оргазм, заглаживая складки на брюках своего благоверного утюгом «Филипс». Ведь это он, ее милый – преуспевающий бизнесмен, – обеспечивает ее всеми последними достижениями домашней техники. Не беда, что сам благоверный в это время отрывается по полной программе с какой-нибудь сексапильной продавщицей из супермаркета, зато дома – шик и блеск, и к его приходу из микроволновой печки «Мулинекс» подается на стол жареная свинина или утка по-пекински.
Вообще-то работа журналиста, наверное, сделала меня несколько циничной, но это совсем не мешало мне осуществлять стратегическое руководство собственным еженедельником «Свидетель», который с каждым номером увеличивал свой тираж, публиковать собственноручно сделанные шокирующие обывателя фото и, между делом, проводить журналистские расследования, результатом которых становились сенсационные статьи.
Любаша уже делала последние штрихи, проводя по моим волосам щеткой из щетины дикого кабана, придававшей им блеск, когда в кармане моего пиджака проснулась «Моторола». Вопросительно взглянув левым глазом на Любашу, потому что правый закрывали волосы, и увидев ее разрешающий кивок, я достала трубку и приложила к уху. Такой чести – иметь номер моего мобильного – удостаивались немногие, но Катерина Фадейкина входила в их число, потому что, во-первых, была моим личным стоматологом, а во-вторых, – подругой, с которой всегда можно было похохмить и расслабиться. Она работала в престижной клинике, оснащенной самым современным оборудованием, но дело было даже не в оборудовании, а в ее отношении к клиенту: внимательном, прямо-таки нежном и веселом. У Катьки была куча поклонников из ее клиентуры, а так как заведение было дорогим, то и ее клиенты, а соответственно и ухажеры были не из бедных. Они просто выпадали в осадок, видя ее ослепительно белое лицо с задорно вздернутым носиком и по-кошачьи вытянутыми синими глазами в обрамлении черных волос.
– Привет, Лелька, – затараторила она. – Давай встретимся, есть кое-что интересненькое для тебя. Когда сможешь прийти? Хорошо, если бы прямо сейчас. Правда, еще мой племянничек должен забежать, но он, как всегда, ненадолго – перекусит, стрельнет полтинник и – Ванькой звали.
Катькиного племянника действительно звали Ванькой – Иваном Веретенниковым. Его родители погибли в автокатастрофе, когда ему было шестнадцать. После этого он стал пить, попал в какую-то компанию и в восемнадцать загремел под суд за воровство. Катька приложила немало усилий и денег, чтобы ему дали условный срок. После этого он стал как от огня бегать от ментов, тихо-мирно пропивал свою зарплату художника-оформителя и работал в подвале школы, директор которой опять же был Катькиным клиентом и плату за аренду брал с него чисто символическую – плакатами к праздникам и оформлением доски объявлений.
Я посмотрела на часы – до намеченного на сегодня мероприятия оставалась еще уйма времени.
– Хорошо, Катерина, – согласилась я, – думаю, смогу подойти к тебе через полчасика.
– Не обедай, – предупредила Катька, – вместе поедим. Я только пришла – голодная как черт, так что не задерживайся.
– Ладно, – усмехнулась я про себя, – постараюсь побыстрее.
Так как маникюр мне уже сделали, я практически освободилась. Заплатив в кассу по прейскуранту, я сунула Любашке «на чай» и бросила напоследок оценивающий взгляд в зеркало. Темно-голубой приталенный пиджак и штанишки «Big star», обтягивающие мои длинные ноги – вид что надо! Немцы просто упадут, увидев меня. Я сняла с вешалки «Никон» на ярко-желтом ремне, с которым старалась никогда и нигде не расставаться, и накинула на плечо.
Ровно через полчаса после Катькиного звонка я стояла перед дверью ее квартиры в предвкушении сытного и вкусного обеда (Катька превосходно готовила) и чего-то «интересненького», как она выразилась. Только вот дверь она мне открывать не торопилась. Надавив на кнопку звонка еще раз, я в задумчивости опустила руку на дверную ручку. Дверь под нажимом руки подалась, и моему взору предстала ужасная картина: в прихожей ярко горела люстра, освещая чисто вымытый пол, на котором лежала Катька. Почти в самом центре груди торчала рукоятка ножа. Крови было немного, наверное, потому, что убийца не вынул нож, а оставил его в теле. Она сочным алым пятном расплылась по желтому шелку короткого халатика, из-под которого торчали ноги, одна из них была неестественно подогнута. В том, что она мертва, не было никаких сомнений. Ее вздернутый носик заострился, прядь черных волос упала на лицо, синие глаза были раскрыты и безжизненно смотрели в потолок.
Я чуть не забилась в истерике рядом с еще теплым телом своей подруги, но тут же собралась, сжала волю в кулак и стиснула зубы. Надо срочно вызвать милицию! Убийца не мог далеко уйти. Дрожащими руками я достала «Моторолу». Горя негодованием и злобой на преступника и в то же время сокрушаясь о Катьке, я позвонила в милицию, назвала адрес подруги. В ожидании опергруппы, я еще раз осмотрела прихожую, но в квартиру не пошла, зная, что преступник мог оставить там свои следы. Хотя мне почему-то казалось, что он дальше прихожей и не заходил. Уже потом, когда приехала опергруппа и кинолог с собакой, подтвердилось, что это действительно так.
Собака, обнюхав рукоятку ножа, покрутилась у входа, ткнулась было мне в колени, но потом уверенно потянула проводника – молодого сержанта с длинным лицом – вниз по лестнице. Оставив тело Фадейкиной в прихожей до приезда криминалистов, мы с капитаном Сорокиным и еще одним сержантом прошли на кухню, где на плите вовсю бушевал чайник, а рядом с ним на сковороде уже догорали котлеты, от которых Катерину оторвал преступник. Я выключила горелки и сгребла обугленные котлеты в мусорное ведро, поставив сковороду в раковину под струю воды. Она зашипела, заполняя кухню паром с запахом гари, и без того распространившейся чуть ли не на лестничную площадку.
Капитан открыл форточку и пригласил меня в гостиную, где было тепло и уютно и ничто не напоминало об убийстве. Только дошедший и сюда запах сгоревшего мяса.
– Жирмунский, – капитан посмотрел на сержанта, стоявшего у входа в гостиную, – сходи-ка за понятыми.
Капитана звали Александром Петровичем. На вид ему было года тридцать два, но в лице его была какая-то усталость, словно он все свои тридцать два года грузил вагонетки углем. Он устроился за столом и, раскрыв серую папку, достал оттуда стопку чистых листов и простую шариковую ручку без колпачка.
Я почти без сил опустилась в кресло у телефона, рядом с которым лежала маленькая записная книжка. Взяв ее в руки, я зачем-то пролистала ее, ничего не видя, потому что строчки расплывались у меня перед глазами, и машинально сунула к себе в карман.
Пока Александр Петрович снимал с меня показания, вернулся сержант с овчаркой.
– Ну что там? – не отрываясь от своих записей, спросил Сорокин.
– Час пик, товарищ капитан, – виновато ответил сержант, – Грей потерял след на остановке. Видимо, преступник уехал на трамвае.
– В каком направлении?
– В сторону железнодорожного вокзала.
Светлана Алешина
Папарацци
«…Ровно через полчаса после Катькиного звонка я стояла перед дверью ее квартиры в предвкушении сытного и вкусного обеда (Катька превосходно готовила) и чего-то «интересненького», как она выразилась. Только вот дверь она мне открывать не торопилась. Надавив на кнопку звонка еще раз, я в задумчивости опустила руку на дверную ручку. Дверь под нажимом руки подалась, и моему взору предстала ужасная картина: в прихожей ярко горела люстра, освещая чисто вымытый пол, на котором лежала Катька. Почти в самом центре груди торчала рукоятка ножа. Крови было немного, наверное, потому, что убийца не вынул нож, а оставил его в теле…»
Светлана Алешина
Подсадная утка
Глава 1
Утро выдалось пасмурное и дождливое. Да и что удивляться – конец октября. На родине Харольда, в Германии, в это время тоже идут дожди, люди также поднимают воротники своих плащей и курток и также в целях согрева балуются спиртным.
Хотя надо заметить, что Харольд был ранее гражданином дружественной нам в эпоху застоя Восточной Германии. Но с тех пор, как две Германии усилиями Горбачева и всего мирового сообщества удалось соединить в одно целое, Харольд успел нахвататься западной мудрости своих немецких братьев, от которых его с такой нелепой жестокостью отделяла знаменитая Берлинская стена. Отец Харольда, будучи соотечественником Шопена, приехал в Германию из Кракова. Познакомившись с некой Ханной Шлессер, он вскоре женился на ней. Ханна обитала вдвоем с мамой в симпатичном домике на окраине Лейпцига. Таким образом Харольду посчастливилось стать земляком Баха. Харольд не посрамил своего родного Лейпцига, он прекрасно разбирался в музыке, хотя в его суждениях о том или ином музыканте порой слышалась интонация пресыщенного чванливого сноба. Он объяснял это самому себе следствием высокоразвитого утонченного вкуса и крайне острой восприимчивостью, которая заставляла его с отчаянной силой страдать, когда, например, соната Баха си-минор – светлая грустная мелодия – исполнялась недостаточно проникновенно, вдумчиво и тонко.
Тарасовские оркестры Харольд ненавидел лютой ненавистью. Его пылкое сердце поэта и меломана негодовало по поводу присущей им топорной манеры исполнения произведений его гениальных соотечественников. Тем не менее он покупал дешевые аудиокассеты с записями концертов классической музыки, руководствуясь непонятно каким мотивом. Здесь его хваленая немецкая прагматичность уступала напору его немецкого романтического духа, родственного дерзким порывам Новалиса и Гофмана проникнуть в святую святых героической сказочной метафизики, замешанной на терпкой барочной символике.
Харольд работал журналистом в местной лейпцигской газете. Его многопрофильный талант позволял ему освещать в газете сразу несколько рубрик – экономическую, социальную и культурную. Лет восемь назад он решил подвизаться на творческих командировках в восточном направлении. Его польские корни влекли его к братьям-славянам. Этот смутный, но неотступный зов, звучавший в его душе подобно легкому и поэтичному анданте Моцарта, заставил его на несколько лет переехать в Россию, где он неплохо выучил русский язык, хотя никак не мог избавиться от характерного немецкого акцента и нередко путал склонения и спряжения глаголов. Он побывал в Татарстане, Узбекистане, Тюмени, на Дальнем Востоке и нигде не посрамил почетного звания журналиста местной лейпцигской газеты.
В Тарасов Харольда привели его немецкие корни, которые, несмотря на время и расстояние, тесно сплелись с корнями поволжских немцев. Он возглавлял отдел культуры в газете «Немцы Поволжья», редакция которой располагалась в тарасовском «Немецком доме».
Проведя вечер и часть ночи с одной из местных красоток, Харольд вторую половину ночи беспокойно проворочался, но так и не уснул. В двухкомнатной комфортабельной квартире, снятой им на улице Шевченко, стояла теплая (благодаря включенному отоплению) тишина. Уже начало светать, а серые глаза Харольда по-прежнему смотрели в потолок. Он никак не мог понять, откуда эта бессонница. Выпитый кагор, задушевные разговоры, воспоминания о Лейпциге, хороший секс – казалось, что еще надо для отличного крепкого сна? Ан нет! Сексом Харольд занимался так же охотно, как и плаваньем, и чувства испытывал примерно такие же, как при удачном заплыве. Порой эти непонятные славянам по своей северной простоте чувства имели оттенок спокойного удовлетворения, какое, например, Харольд испытывал после порции хорошо приготовленных пельменей или ежеутренней и ежевечерней чистки зубов. Девушек он использовал наподобие зубных щеток, призванных обеспечить ему свежее дыхание, отличное самочувствие и бодрый жизнерадостный настрой. Для здоровья, одним словом, физического и морального.
Это не исключало интеллектуальных бесед, совместного прослушивания какой-нибудь фуги Баха, разговоров на исторические, культурные или этнические темы с широким обсуждением наболевших проблем. Но конечный результат был один и тот же – насладившись со знанием дела спелым телом очередной студентки или парикмахерши, Харольд вызывал ей такси. Он предпочитал спать один. Довольно узкая кровать, на которой с трудом умещалось его огромное сильное тело, была лишь дополнительным мотивом для таких ночных проводов девушек, самые наивные из которых были уже близки к мысли, что им удалось навсегда пленить закаленное в условиях эмоциональной мерзлоты и глухоты сердце «белокурой бестии».
Но не тут-то было: Харольд был неуязвим для прекрасных глаз и стройных тел наших предприимчивых соотечественниц. Короткие красивые романы были его хобби. Романтика причудливо сочеталась в его образе жизни с самой заурядной капиталистической заботой о здоровье, поэтому эта затяжная бессонница, рисовавшая под его глазами темные круги, не на шутку обеспокоила его. Не в силах больше валяться в кровати, он встал, натянул синий махровый халат и взял с полки плеер. Вставил кассету с «Временами года» Вивальди и, плюхнувшись в глубокое низкое кресло, принялся слушать. Часы на стене показывали без пяти шесть.
«Вивальди слишком патетичен для шести утра», – подумал он и сменил «Времена года» на Шопена.
Глаза Харольда непроизвольно закрылись, он погрузился в созерцание причудливого плетения шопеновской меланхолии. Харольду чудился запорошенный снегом старый замок, стаи белых хлопьев кружились в такт неспешной грустной мелодии, льющейся из-под пальцев Ван Клиберна. Незаметно тихая нежная мелодия стала соскальзывать со слуховой оси Харольда в сонное безмолвие. На периферии сознания еще трепетали легкие, как садящиеся на кровлю заброшенного замка снежинки, аккорды. Харольд казался самому себе снеговой громадой, медленно уходящей под воду. Еще одна нота, о, как она дрожит, навстречу ей спешит другая, смывающая первую, как приятно она щекочет слух, как…
Дверной звонок смел тягучую грусть шопеновской сонаты. Харольд вздрогнул и открыл глаза. В комнате было светло. Раздвинутые шторы позволяли утру беспрепятственно проникать в комнату. Серое небо без всякого любопытства заглядывало в нее. Часы показывали половину одиннадцатого.
Харольд поспешил в прихожую. Звонок заголосил с новой силой. «Какого черта поставили такой резкий звонок?» – мысленно задался вопросом Харольд, подходя к двери. «Глазка» не было.
– Кто? – опасливо спросил он.
– Доброе утро, это я, – ответил глухой мужской голос, – мы с вами вчера по телефону договаривались насчет одной вещички.
– А, Гера, – голос Харольда потеплел, – сейчас, подожди.
Харольд отпер пару «трудных» замков и впустил визитера.
* * *
Сегодня мне предстояло посетить «Немецкий дом», где должен был играть приехавший в Тарасов струнный квартет из Берлина; после концерта предполагался фуршет в «неформальной» обстановке.
Я сидела в удобном кресле элитного «Имидж-салона», носящем имя своего основателя и ведущего стилиста Артема Повелко, а над моей головой колдовала мастер салона Любаша Чуркина, создавая мне прическу в стиле «Гранж». Дело подходило к концу, и я уже представляла себя этакой раскрепощенной дивой, пренебрегающей условностями, каковой, впрочем, в глубине души и была.
Просторный зал салона своими модерновыми креслами с гидравлическими подъемниками и колонками для мойки несколько напоминал стоматологический кабинет. Высокие зеркала без рам, закрепленные меж массивными никелированными стойками, лишь немного приглушали это впечатление. Да еще картина на голой белой стене, изображавшая двух задумавшихся ангелочков с маленькими, как у воробышек, крылышками и одинокая пальма в белой пластиковой кадке.
Музыка из фильма «Криминальное чтиво», под которую танцевали герои Траволты и Турман, доносившаяся из спрятанных где-то динамиков, то и дело прерывалась рекламой, примерно с такими словами:
А кто нам может жить красиво запретить:
Стирать и гладить, жарить мясо и варить?..
И так далее… Я представила себе нашу продвинутую домохозяйку, которая просто тащится только от того, что стирает в супермашине «Индезит» или даже испытывает оргазм, заглаживая складки на брюках своего благоверного утюгом «Филипс». Ведь это он, ее милый – преуспевающий бизнесмен, – обеспечивает ее всеми последними достижениями домашней техники. Не беда, что сам благоверный в это время отрывается по полной программе с какой-нибудь сексапильной продавщицей из супермаркета, зато дома – шик и блеск, и к его приходу из микроволновой печки «Мулинекс» подается на стол жареная свинина или утка по-пекински.
Вообще-то работа журналиста, наверное, сделала меня несколько циничной, но это совсем не мешало мне осуществлять стратегическое руководство собственным еженедельником «Свидетель», который с каждым номером увеличивал свой тираж, публиковать собственноручно сделанные шокирующие обывателя фото и, между делом, проводить журналистские расследования, результатом которых становились сенсационные статьи.
Любаша уже делала последние штрихи, проводя по моим волосам щеткой из щетины дикого кабана, придававшей им блеск, когда в кармане моего пиджака проснулась «Моторола». Вопросительно взглянув левым глазом на Любашу, потому что правый закрывали волосы, и увидев ее разрешающий кивок, я достала трубку и приложила к уху. Такой чести – иметь номер моего мобильного – удостаивались немногие, но Катерина Фадейкина входила в их число, потому что, во-первых, была моим личным стоматологом, а во-вторых, – подругой, с которой всегда можно было похохмить и расслабиться. Она работала в престижной клинике, оснащенной самым современным оборудованием, но дело было даже не в оборудовании, а в ее отношении к клиенту: внимательном, прямо-таки нежном и веселом. У Катьки была куча поклонников из ее клиентуры, а так как заведение было дорогим, то и ее клиенты, а соответственно и ухажеры были не из бедных. Они просто выпадали в осадок, видя ее ослепительно белое лицо с задорно вздернутым носиком и по-кошачьи вытянутыми синими глазами в обрамлении черных волос.
– Привет, Лелька, – затараторила она. – Давай встретимся, есть кое-что интересненькое для тебя. Когда сможешь прийти? Хорошо, если бы прямо сейчас. Правда, еще мой племянничек должен забежать, но он, как всегда, ненадолго – перекусит, стрельнет полтинник и – Ванькой звали.
Катькиного племянника действительно звали Ванькой – Иваном Веретенниковым. Его родители погибли в автокатастрофе, когда ему было шестнадцать. После этого он стал пить, попал в какую-то компанию и в восемнадцать загремел под суд за воровство. Катька приложила немало усилий и денег, чтобы ему дали условный срок. После этого он стал как от огня бегать от ментов, тихо-мирно пропивал свою зарплату художника-оформителя и работал в подвале школы, директор которой опять же был Катькиным клиентом и плату за аренду брал с него чисто символическую – плакатами к праздникам и оформлением доски объявлений.
Я посмотрела на часы – до намеченного на сегодня мероприятия оставалась еще уйма времени.
– Хорошо, Катерина, – согласилась я, – думаю, смогу подойти к тебе через полчасика.
– Не обедай, – предупредила Катька, – вместе поедим. Я только пришла – голодная как черт, так что не задерживайся.
– Ладно, – усмехнулась я про себя, – постараюсь побыстрее.
Так как маникюр мне уже сделали, я практически освободилась. Заплатив в кассу по прейскуранту, я сунула Любашке «на чай» и бросила напоследок оценивающий взгляд в зеркало. Темно-голубой приталенный пиджак и штанишки «Big star», обтягивающие мои длинные ноги – вид что надо! Немцы просто упадут, увидев меня. Я сняла с вешалки «Никон» на ярко-желтом ремне, с которым старалась никогда и нигде не расставаться, и накинула на плечо.
Ровно через полчаса после Катькиного звонка я стояла перед дверью ее квартиры в предвкушении сытного и вкусного обеда (Катька превосходно готовила) и чего-то «интересненького», как она выразилась. Только вот дверь она мне открывать не торопилась. Надавив на кнопку звонка еще раз, я в задумчивости опустила руку на дверную ручку. Дверь под нажимом руки подалась, и моему взору предстала ужасная картина: в прихожей ярко горела люстра, освещая чисто вымытый пол, на котором лежала Катька. Почти в самом центре груди торчала рукоятка ножа. Крови было немного, наверное, потому, что убийца не вынул нож, а оставил его в теле. Она сочным алым пятном расплылась по желтому шелку короткого халатика, из-под которого торчали ноги, одна из них была неестественно подогнута. В том, что она мертва, не было никаких сомнений. Ее вздернутый носик заострился, прядь черных волос упала на лицо, синие глаза были раскрыты и безжизненно смотрели в потолок.
Я чуть не забилась в истерике рядом с еще теплым телом своей подруги, но тут же собралась, сжала волю в кулак и стиснула зубы. Надо срочно вызвать милицию! Убийца не мог далеко уйти. Дрожащими руками я достала «Моторолу». Горя негодованием и злобой на преступника и в то же время сокрушаясь о Катьке, я позвонила в милицию, назвала адрес подруги. В ожидании опергруппы, я еще раз осмотрела прихожую, но в квартиру не пошла, зная, что преступник мог оставить там свои следы. Хотя мне почему-то казалось, что он дальше прихожей и не заходил. Уже потом, когда приехала опергруппа и кинолог с собакой, подтвердилось, что это действительно так.
Собака, обнюхав рукоятку ножа, покрутилась у входа, ткнулась было мне в колени, но потом уверенно потянула проводника – молодого сержанта с длинным лицом – вниз по лестнице. Оставив тело Фадейкиной в прихожей до приезда криминалистов, мы с капитаном Сорокиным и еще одним сержантом прошли на кухню, где на плите вовсю бушевал чайник, а рядом с ним на сковороде уже догорали котлеты, от которых Катерину оторвал преступник. Я выключила горелки и сгребла обугленные котлеты в мусорное ведро, поставив сковороду в раковину под струю воды. Она зашипела, заполняя кухню паром с запахом гари, и без того распространившейся чуть ли не на лестничную площадку.
Капитан открыл форточку и пригласил меня в гостиную, где было тепло и уютно и ничто не напоминало об убийстве. Только дошедший и сюда запах сгоревшего мяса.
– Жирмунский, – капитан посмотрел на сержанта, стоявшего у входа в гостиную, – сходи-ка за понятыми.
Капитана звали Александром Петровичем. На вид ему было года тридцать два, но в лице его была какая-то усталость, словно он все свои тридцать два года грузил вагонетки углем. Он устроился за столом и, раскрыв серую папку, достал оттуда стопку чистых листов и простую шариковую ручку без колпачка.
Я почти без сил опустилась в кресло у телефона, рядом с которым лежала маленькая записная книжка. Взяв ее в руки, я зачем-то пролистала ее, ничего не видя, потому что строчки расплывались у меня перед глазами, и машинально сунула к себе в карман.
Пока Александр Петрович снимал с меня показания, вернулся сержант с овчаркой.
– Ну что там? – не отрываясь от своих записей, спросил Сорокин.
– Час пик, товарищ капитан, – виновато ответил сержант, – Грей потерял след на остановке. Видимо, преступник уехал на трамвае.
– В каком направлении?
– В сторону железнодорожного вокзала.