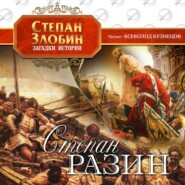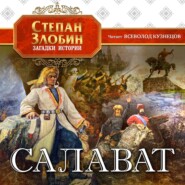По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«На правеж», – пометил воевода в списке против имени Гаврилы, как и против многих других имен почтенных посадских.
Хлебника привели к воеводе. Он сказал, что дотла разорен Емельяновым, что у него даже нет лавки, за которую он задолжал недоимку, что торгует он теперь в чужой лавке чужим хлебом и не с чего ему так разжиться, чтобы ныне отдать долги.
– А кто челобитную починал на старого воеводу? – спросил Собакин.
– Весь город, и я со всеми, осударь воевода, – признался Гаврила.
– Грамотен! – протянул с насмешкой Собакин. – А ты б, чем грамоты сочинять на бояр да окольничих, об своем торге лучше мыслил. Вот бы тебя никто и не разорил. А ныне что мне с тобой делать? С меня государь недоимки спрошает… где возьму? Иди на правеж!
– Смилуйся, осударь воевода, нечем платить! – взмолился Гаврила.
– Не за то, мужик, на правеж пойдешь, что деньги не отдал, а за то, что, дурак, разорился. Не в свое полез – грамоты сочиняешь, – отечески возразил воевода. – Тебе добра хочу – разуму научить, вперед бережливей будешь! Робята, чай, малые есть? – участливо спросил Собакин.
– Трое малых, – вздохнул Гаврила.
– Ну, как не бить за троих, что их разоряешь! Бог нам для детей богатство дает, а ты порастряс. За то тебе вдвое дадут, – сочувственно подтвердил воевода.
…Гаврила Демидов стоял на правеже у съезжей избы.
«Учат нас, дураков посадских, как жить, – думал хлебник с обидой и злостью, – учат нас, что нет у царя праведных воевод. Одного натужишься скинешь – другого посадят злее цепной собаки. Инако жить надо. Инако и ладить надо. Видно, чья сила, того и право на грешной земле. Знать, и нам свою силу копить!»
2
Кузя присоветовал Иванке обратиться к Томиле Ивановичу, расспросить у него, как быть, где хлопотать и что может статься с отцом.
Томила узнал через подьячих съезжей избы, что Истому мучили пытками, жгли и что после тех пыток звонарь лежит в тюрьме.
– Мыслю я, что теперь его пустят домой, – сказал Томила Иванке.
С этого дня Иванка стал ждать возвращения отца. Но шли дни за днями, а Истома не возвращался.
Иванка должен был выдумывать всякие штуки, чтобы кормиться и кормить ребят и старуху.
К масленой, когда устраивалось гульбище с катанием на санях и с хороводами, Иванка наделал сидений к качелям и с ними вышел на торг, предлагая желающим покачаться.
– На масленичну качель заморские седла, под всякий зад, под боярский и подлый! – выкрикивал Иванка.
Молодые стрельцы, посадские, дети боярские[118 - Дети боярские – сословие мелких феодалов, которые несли воинскую службу.] платили за «заморские седла». И по вечерам Иванка возвращался домой с набитым кошелем. Правда, кошель был набит не золотом – мелкой монетой нищих, словно он собирал, сидя у паперти, но на семью хватало…
На третий день масленой с утра Иванка опять отправился на площадь. У места торговых казней палач прохаживался, приготовляясь бить кого-то кнутом. Собиралась толпа зевак, окружая позорный столб возле съезжей избы. Иванке стало не по себе. Торопливо пройдя мимо места мучений, он остановился возле качелей. Еще никто не качался, только начинался торг, и народ сходился понемногу. Вдруг Иванка увидел Аленку с каким-то высоким и стройным парнем. Иванка заволновался: после святок хоть он и не видел ее, но, вспоминая, всегда представлял себя рядом с ней… Ему казалось, что надо обоим лишь подрасти. И вот Аленка уже подросла и игриво смеялась с нарядным чужим молодцом. Она разрумянилась от веселья и что-то шептала на ухо парню. Его лица не видал Иванка. Он только видел, как молодец наклоняется к ней, приоткрыв одно ухо, чтобы лучше слышать свою красотку, и для того лихо сбив набекрень шапочку с бархатным верхом… Иванка осмотрел свой наряд и показался себе вовсе убогим.
Он знал, что кузнец, взятый к расспросу по делу о емельяновском контаре, был отпущен тогда же, и то, что он был допрошен под плетью, сделало его невинным мучеником в глазах псковитян. Все шли к нему с сочувствием и заказами, и он стал жить снова богато…
Скоморошья ватага, пестрая и крикливая, гудя в волынки, ударяя в бубны, оглушая свистом, ворвалась на площадь и всколыхнула толпу. Высокий малый в широкой шляпе с лентами и бубенцами пробежал, играя в пятнашки с большим медведем. При этом медведь, не поспевая за ним, так сердито рычал с досады, что испугал окружающих, и толпа попятилась на Иванку. Аленка вместе со спутником оказались возле него, совсем рядом. Чтобы обратить на себя ее взоры, Иванка вдруг заорал во все горло:
– Седла от недуга, от задней боли, чтобы от качель не нажить мозолей! Седла дешевы, седла заморские для качель!
Аленка оглянулась. Оглянулся и спутник ее – это оказался ее родной брат Якуня. Он так нарядился, что было его не узнать… Якуня обрадованно замахал Иванке. Они подошли. Иванка дал им сиденье для качелей и с удовольствием долго глядел, как они высоко взлетали над шумной и пестрой толпой…
Когда они, накатавшись вдоволь, пришли возвратить сиденье, Иванка позвал Аленку опять на качели вместе с собой, научив Якуню кричать про «заморские седла».
– Ладно, ступай себе, – согласился Якуня и вдруг, как взаправдашний торговец, звонко, заливисто закричал, предлагая седла…
Весело рассмеявшись, Иванка с дочерью кузнеца пошли на качели.
Иванка раскачивал стоя. Крепкие руки его туго натягивали веревку, и качели взлетали все выше и выше, и Аленка ахала, замирая на высоте.
– Не бойсь, не бойсь, ничего! – с довольной улыбкой мужского превосходства бодрил Иванка.
И уже их качель взлетала выше других, и все, кто собирался на площади, подымали головы и кричали:
– Буде! Уж буде! Сорвешься, пострел окаянный!
Иванке казалось, что он летит выше всего мира со своей прекрасной царевной и под ним не простая базарная качель, а ковер-самолет, под которым внизу и моря, и леса, и горы…
Гудели литавры, визжали волынки, пели рожки.
Веселый спустился Иванка на площадь, и внизу все еще его большой рот расплывался в улыбку.
Вдруг в пестрой толпе мелькнуло встревоженное лицо Томилы. Иванка встретился взглядом с его озабоченными глазами, и какое-то смутное предчувствие беды охватило его холодком, а лоб под шапкой покрылся мгновенно выступившей испариной.
Подьячий глазами позвал его в сторону, и Иванка шагнул к нему.
– Идем живей, – сказал Томила. – Отца на торг провезли кнутом казнить…
Эти слова донеслись до Иванки словно откуда-то из колодца, в одно и то же время и отдаленные и повторяющиеся неумолкающим отзвуком, будто гром… Непонимающим взглядом, растерянно посмотрел Иванка на летописца, на Якуню и на Аленку. Словно в тумане увидел он, как скривились в жалобную гримасу сочувствия улыбающиеся губы Якуни и как в расширенных, округлившихся глазах Аленки скопилась теплая влага.
Иванка вдруг повернулся и, не сказав никому ни слова, помчался по площади к месту казней…
Ожесточенно расталкивал он локтями базарную толпу. От волнения и быстрого бега больно колотилось сердце…
У места казни тесной кучкой сгрудился разный народ – зеваки всевозможных чинов и званий.
Кнут уже сделал свое жестокое дело. На рогоже, на рыжем, словно ржавом, снегу, у позорного столба лежали два окровавленных неподвижных тела. В большом истерзанном человеке Иванка бы не признал отца: сплошные лоскутья кровавого рваного мяса покрыли его обнаженную спину. У Иванки затряслись губы и побелело лицо. Вид запоротого отца его испугал, особенно потому, что после пыток Иванка уже не ждал для него еще нового наказания… Сквозь скопище ротозеев протолкался Иванка к столбу.
– Убили его? – спросил он сдавленным голосом.
– Живуч! Очнется! – пренебрежительно ответил приказный. – А ты ему кто?
– Сын.
– Веди поручных[119 - То есть поручителей.]. Государев указ – «выбить дурь кнутом да пустить на поруки».
– Куда? – в замешательстве переспросил Иванка.
В это время к ним подоспел Томила.
– Ты, Иван, лошадь скорей ряди. Я тут улажу, – сказал он.
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0