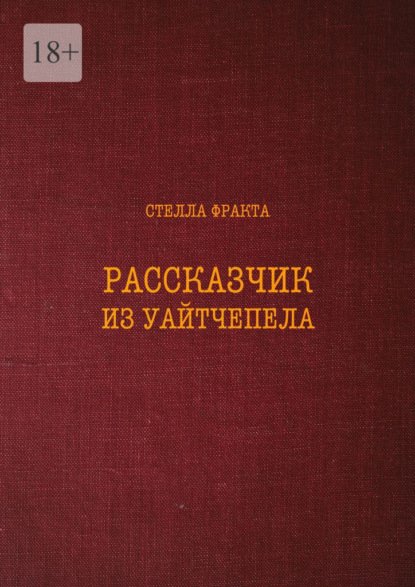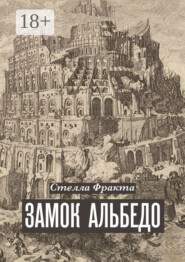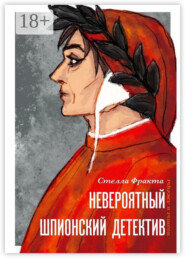По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказчик из Уайтчепела
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, – Уилсон вновь спрятал взгляд в коробке. – И язык этот не только мой, он общий для тех, кто может быть какой угодно профессии и положения. И если начать разбираться почему, – он оставил паузу на выразительное шуршание, – то однозначного ответа не будет. Потому что у меня нет тех травм, которые есть у него, но я читал об этом и видел людей, которые переживали ситуации, схожие с его опытом. И это все та же эмпатия, способность проецировать, сопереживать, воображать, ставить себя на чужое место.
Эд пытался понять – и даже затаил дыхание. «Герменевтика это круг анализа, Уилсон анализирует преступника, он взаимодействует с ним», – рассуждал он мысленно.
– Так наращивается коллективный опыт и эмоциональный интеллект – через обмен идеями. И я вижу, к чему это идет, я вижу, что я не могу его остановить – потому что так работает его психика, – Уилсон замялся. – Я увидел человека за этим фасадом насилия. Потому что я увидел, о чем он говорит. И я не знаю, как бы я ходил два дня, если бы не смог объяснить никому здесь, что я увидел.
Писториус начал осторожно.
– Я не осуждаю никакие интеллектуальные упражнения и эксперименты… Тем более – во благо и во имя правосудия.
Уилсон взглянул на него, губы сложились – снова – в грустную улыбку. Эд продолжил.
– Меня всегда интересовал состав преступления, я видел в нем занятную головоломку – и я понял человечность жертвы, но не убийцы. К чему вас это толкает – то, что вы видите человека? Что есть человек – если человечность включает способность пойти на настолько холодные в своем расчете зверства?
– Марс может быть прав, и это профдеформация. Я знаю убийц так же хорошо, как и обычных людей, и они страшные, но простые, – Уилсон покачал головой. – Эмоциональное переживание, травма – фиксация – ассоциативная связь, замыкание нейронной цепи, распределение импульса по синапсам – мгновенная вспышка в мозге, затем долгоиграющая гормональная поддержка, оставляющая в теле след, заставляющая искать это после, не зная, что это такое.
Он на время замолчал, он слышал свой голос, отраженный от стеллажей и коробок, глухих стен – как будто его аудиторией были те, чьи имена отпечатались на старых архивных бумагах.
– Беспомощность – потеря контроля – отчаяние – рывок – насилие – убийство – обретение контроля, – перечислял Уилсон. – Но он убил, потому что смысл жизни человека или любого живого существа в его системе символов иной. Про него справедливы все предыдущие утверждения о механизме действия – от мысли о неудовлетворенном желании до убийства – и он тоже живой, как и те, кто приговорят его, осудив, что он убил.
Эд дослушал и тяжко вздохнул. С чего Уилсон взял, что рассказчик живой? Он видит боль между строк кровавого повествования, где обыкновенный человек увидел бы только то, что ему показывает автор.
– Будьте осторожны. В последний раз, когда я сам проходил такое… вовлечение в убийство, это захватило всю мою жизнь.
Он чуть не сказал «увлечение убийцей» – потому что уж слишком в свое время было велико искушение необратимо увлечься Джеком-потрошителем.
Уилсон улыбнулся – теперь уже более жизнерадостно, – и кивнул на стоявшее в углу за стеллажом картонное, в человеческий рост, изображение Эдварда Писториуса с лупой, в шапке детектива – оставшееся после презентации книги о тайнах района Уайтчепел.
Он продал всего сто два экземпляра за два года.
– История о Потрошителе живет до сих пор, – молвил доктор Уилсон, – потому что до сих пор какие-то вопросы не отвечены. В каждом вопросе радость, в каждом ответе – утрата. Если бы ты по методу активного воображения Карла Густава Юнга вообразил себя Потрошителем, ты бы разгадал его загадку, и убил бы его этим.
Лицо Эда переменилось – от осознания.
– В ответе – утрата… – протянул он, глядя куда-то мимо собеседника. – Убийца, который жаждет разгадки, жаждет смерти… Мортидо! Не рубедо!
– Усталость и угасание, – подтвердил Уилсон. – Вовсе не бог и любовь – в образе взошедшего алого солнца.
Писториус нахмурился.
– Что может подтолкнуть человека перестать стремиться к жизни – перевернуть, извратить самый базовый инстинкт? – он пожал плечами, озвучивая очевидную догадку. – Миру, все же, нужны патологоанатомы.
– И гробовщики, – согласился Уилсон, а затем ухватился за мысль. – Он рядом со смертью. Ее символ – другой. Он режет как хирург, он режет трупы. Эдвард, это оно!
Уилсон уже сорвался с места, огибая нагромождения лабиринтов архива, и на бегу обернулся:
– Спасибо.
Эд смотрел ему вслед и прислушивался к торопливым шагам, удаляющимся по коридору. На пути Уилсону попался Клеман – выходивший из мужского туалета, поправляя манжеты рукавов.
– Сэр, он режет как хирург и не боится смерти, – выпалил Уилсон, и от его дикого вида – как у ученых, орущих «Эврика!» – Клеману стало не по себе. – Он патологоанатом.
8. Язык
Таксист, отвозивший пассажира с длинными волосами, в очках, кепке, похожего по описанию на преступника, нашелся – но ничего полезного, увы, сообщить не мог – кроме того, что высадил того у жилого дома в Саутуорке, на южном берегу Темзы. Никаких деталей он не прояснил – кроме того, что голос у пассажира был приятный.
Кукла оказалась популярной игрушкой – и продавалась во множестве магазинов, как и бумажный змей. Отследить их покупателей было просто невозможно.
Офис опять был занят телефонными звонками и проверками – на сей раз патологоанатомов, благо их в столице меньше, чем врачей. Фильтр по возрасту от двадцати до пятидесяти – и предположительное место обитания в Ист-Энде, в радиусе пары миль от квартала места преступления.
– Студенты, – подсказал Уилсон. – Их не стоит исключать.
Марс не возражал.
– Студентов – и преподавателей – через учебные заведения, – распорядился он. – Берите Пеше – и по списку.
Клеман в кабинете за стеклом, преимущественно молча, слушал по телефону рекомендации – больше похожие на выговор – от Службы столичной полиции. Спустя четверть часа он положил трубку, устало прикрывая глаза – но в общий офис вышел не сразу.
Дарио уже делал заметки, составлял план и был готов к действию.
– Будем ли мы рассматривать судебных медиков? – подал голос он. – Они тоже своего рода патологоанатомы, когда имеют дело не с живыми – но в полиции. Если он маскировался и не оставил следов, он знаком с процедурой расследования.
– Всех рассматриваем, – кивал Марс.
– Можно начать с Медицинской школы при Госпитале святого Джорджа, – Дарио поднял взгляд от записей в блокноте на Уилсона. – У тебя еще есть идеи?
– Нужно придумать систему опроса – студентов и преподавателей. Они вспомнят кого-нибудь особенного из бывших учеников и помогут выделить типаж нашего рассказчика, но типаж рассказчика обитает в разных местах. Кто-то на дневном, кто-то на вечернем. Кто-то работает и учится… Я боюсь, что я, как преподаватель судебной психиатрии, вижу не совсем такой же срез студентов. Ты давно закончил обучение?
– Чуть больше двух лет назад… – Дарио задумался. – Он убивает ночью. Ему нужно это как-то совмещать с жизнью. Самообразование?
Он уже встал из-за стола, начал надевать пиджак. Уилсон остановил его жестом.
– Или брал консультации… Для начала можно спросить про специфику постановки руки, и можно ли определить уровень и опытность по качеству исполнения, – и Уилсон добавил: – Пока доктор Ллевелин на смене.
Дарио понимающе кивнул и уселся обратно.
– А я тогда составлю список вопросов.
Когда Уилсон проходил мимо лаборатории на пути к моргу, он уже слышал голоса и смех – и то, как Харт рассказывал о курьезе, случившимся с ним этим утром.
– …взяла и закрылась.
– И что ты сделал?
– Взял кредитку и, не побоюсь этого слова, – Харт сделал жест рукой, напоминающий короткий удар ножом, – вставил.
Уилсон замедлил шаг в коридоре, вошел так, чтобы судмедэксперты, ковырявшиеся в чьем-то теле, заметили его появление.
– Доктор Ллевелин. Харт, – поприветствовал он их.