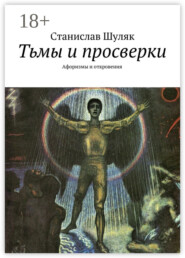По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новый Ницше. и другие рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Никого? – сказал тот. – Никого не уважаешь?
– И кесаря тоже? – снова встряла старуха.
– Ну?! – замахнулся Пётр.
– Кесарю нынче не обязательно даже отдавать кесарева, совершенно не обязательно, – тихо сказал я. – Да он его, впрочем, и не требует, он его сам тибрит.
– Вот! – вскричал Павлик. – Слышали?
– Не уважаешь, значит? – спросил Пётр. – Презираешь? И меня презираешь? И Марфу презираешь? И бабушку вот презираешь? И вообще всех презираешь? Так, что ли?
– Да, – хмуро сказал я. – Я презирал человека, но от кого ещё, если не от меня, ожидать ему его блистательных ренессансов и реабилитаций?!
– Ясно вам?! – торжествующе потёр руки Павлик.
Мог ли я ныне успеть утвердить вездесущее, но неопознаваемое? Разумеется, не мог. Минуты, мгновения сплавились для меня в одно, сжались в сверхчеловеческий сгусток… Быть человеком – значит лишь оскорбить себя самого, но что же делать, что ещё выбирать, когда нет, вовсе нет на свете ни единого достойного звания?! Христианин для меня – синоним мерзавца, иудей помечен Богом в свои ручные шельмы, в этом-то и есть его пресловутая избранность. Прочие же… Хотя, конечно, что прочие?.. Разве есть они вообще – прочие?! Когда я вблизи человеков, я чувствую себя надышавшимся угарным газом.
– А по-моему, – тихо сказала вдруг какая-то женщина, по виду старая дева, – по-моему, таких просто убивать надо. Убивать, – теперь уже громче сказала она. – Он же все чувства грязнит и поганит. Если ты ждёшь чувства, большого, светлого, возвышающего, а тут появляется такой вот со своим цинизмом, со своими насмешками, со своим безразличием и поганит, поганит… Таких убивать, убивать, убивать надо!.. – кричала она, и слёзы вдруг брызнули из глаз её.
– Вот! – заорал Пётр. – Слышали!.. Вот истина глаголет устами этой доброй женщины! Женщина, не плачьте…
– Надо, чтобы народ осудил этого!.. – воскликнул и Павлик. – Единодушно, единогласно!.. В одном, так сказать, порыве…
– Нельзя же паскудства терпеть до бесконечности! – прогудел ещё Пётр.
– Нет, а я не согласен, – загудел плюгавенький законник. – Убивать просто так никому право не дано. Что это будет, если все станут убивать друг друга, когда им что-то там не нравится?! Это уж, пожалуй, похлеще кесаря выйдет. Вы и так уж ему, я вижу, телесные повреждения нанесли.
– Это не мы, – гаркнул Пётр. – Это он сам об косяк башкой треснулся.
– Ишь, умник какой отыскался! – презрительно бросила старуха Ленская.
– Не дурнее некоторых, – огрызнулся плюгавенький.
Старухин внучек хохотал идиотским смехом. Слушая этот смех, хохотнула и Марфа. Плечи старой девы сотрясались в рыданиях.
Более я уж не мог этого наблюдать. Победы или поражения – это всегда вопросы статистики, с последней же у меня всегда были отношения непростые.
– Довольно! – глухо сказал я. И зажал голову руками, стиснул её обеими руками, до боли, до испарины, до искр в глазах. Кому, кроме меня, ещё претендовать на вакансии мной же самим умерщвлённых?!
– Стой! – крикнули мне. – Куда?!
Но я уж не слушал. Кто из них знает смятенное? Кто из них позволит ему поселиться в душе своей хотя бы на миг? Кто позволит взбудоражить её этим самым смятенным, взволновать, возмутить или обидеть? Кто решится своё смятенное, беспорядочное поставить во главу своей причудливости, принести в пищу своему созидающему огню? Да и ведомо ли тебе причудливое, ведомо ли тебе творящее, человек? Ты весь ум свой, весь талант свой, всё природное добродушие своё, всю местечковую свою отзывчивость, человек, заклеил своими никчёмными акцизными марками. Сзади меня хлестнули плёткою, напоследок, от бессилия, я шагнул на проезжую часть, взвизгнули тормоза, какой-то автомобиль, должно быть, какое-то внутреннее сгорание, но я их не видел. Сделал ещё шаг, потом ещё и ещё. Колокол гремел в груди моей, сокрушая её изнутри. Уж если даже я – Я! – отказываюсь от всех вожделенных надмирных вакансий, так значит уж точно всякому вашему святому месту быть пусту!..
Всякая мысль моя – дело всех моих нервов.
– Феденька! – крикнул кто-то, то ли Марфа, то ли старуха Ленская, то ли обе они разом, единым своим безрассудным гласом.
Кажется, он уже летел на меня, на всём своем ходу, со всею своею стремительностью. Я чувствовал его, я его ощущал. Я обернулся.
И вдруг всё стихло – крики, смешки, сожаления, странности, кривотолки, сослагательные наклонения, страхи перед чистым листом, восторги и метафизики… И тогда я увидел его. Он быстро приближался ко мне. Ярость и ужас были на лице вагоновожатой. Гремел звонок, вороны испуганно метнулись между домами, небо будто приблизилось ко мне на расстояние волоса, заскрежетало железо, посыпались искры, и он остановился подле меня, и даже слегка толкнул меня своею недвусмысленной грудью. Уверен, что не нарочно.
Я застыл, я задохнулся. Я развёл руки в стороны и обнял его. Обнял как мог. И слёзы катились по моим щекам.
– Трамвай, – сказал я. – Люблю тебя, трамвай, – сказал я. – До замирания сердца люблю. Душу твою железную люблю, – сказал я. – Ибо человечью любить не могу, – сказал я. – Ты уж изнемог душою своею железной, – сказал я, – вот и я изнемог тоже. Гонят тебя и преследуют, – сказал я, – и меня вот тоже гонят и преследуют, брат мой трамвай, – сказал я. – Оба мы с тобою – несчастные странники, – сказал я. – Верь мне, брат мой, – сказал я. – И я отведу тебя туда, где ни тебя, ни меня не будут гнать и преследовать, брат мой, – сказал я, – где не будут сомневаться ни в твоём первородстве, ни в моём величии, ни в моём достоинстве, чёрт бы их побрал, – сказал я. – Пойдём, брат, – сказал я.
Я повернулся, и мы пошли. Я шёл впереди, мерно постукивая своими деревянными подошвами, и он за мною, тихий, красивый, укрощённый, величественный, постепенно набирающий ход. Оба мы улыбались. Оба мы были счастливы.
Зеркало
В последнее время, смотрясь в зеркало, в то, что висит у меня в прихожей, я перестал видеть своё собственное отражение, из чего делаю вывод, что я уже умер.
Но вот выйдет ли из этого история связная, не захлебнусь ли своими беспорядочными грёзами? Как знать…
Или всё-таки ошибка, самообман, наваждение?
Возможно, я был ещё жив, но уж, несомненно, полагал себя каким-то Улиссом неподвижности или какою-то сарделькою для собак.
Вперёд же, смелее, меньше сомнений и недоговорённостей!.. Избегая, однако, минных полей монотонности и ловушек большого стиля. Разве же ты не знал всегда героизма безрассудства, разве не изобретал его для себя?!
Вот снова вижу стены, оклеенные тёмными чешуйчатыми обоями, коридор, ведущий в кухню, галогеновую лампу под матовым колпаком, сумрак дверного проёма комнаты в стороне, но, чёрт побери! – не вижу себя, тогда как уж себя-то я должен был бы видеть в первую очередь.
Я долго ещё сохранял хладнокровие, жабье или гадючье. Кто знает, каким оно было у меня? Поначалу я даже пытался выдвигать разные версии сего феномена, например, оптическую или психопатологическую, но постепенно сам отвергал их одну за другой.
Ничего не поделаешь, я многое передумал, многое перепробовал, но загадка не разрешилась. Причём, с тенью моей было как раз всё в порядке, она оставалась на положенном ей месте, но вот отражение, отражение!.. Чего там греха таить: оно исчезло напрочь!..
Хуже того: мне долго ещё удавалось видеть моё нескладное отражение во многих других зеркалах, в чужих гостиных, в общественных туалетах, даже в витринах магазинов я мельком ещё различал себя, дробящегося и искажённого. И лишь одно это зеркало причиняло мне столько страданий и недоумений. Да-да, а ведь глаз мой всегда был злым и зажиточным. Взгляд мой был болезненным и непоседливым. Впрочем, что – я? Что – все мои болезни? Ведь даже сам мир есть сумма патологий, рядящихся в одежды обыденности!..
И чем более я вглядывался в сию страшную амальгаму, тем более разума перетекало из меня в неё. Я насыщал её своими смыслами, своими фантазиями и наваждениями.
Вскоре же начал исчезать и во всех прочих зеркалах, хотя и не сразу, не вдруг, я двоился, троился, иногда пропадала чёткость и точность очертаний, но всё равно, не стоило себя обманывать: дело шло к полному исчезновению.
Весьма маргинальное занятие – выдумывание всевозможных предположений, сочинение разнообразных версий. Впрочем, не следует забывать, что и жизнь – ещё более маргинальное занятие.
Это моё зеркало, разумеется, стоило раскокать, ничего большего оно не заслуживало, я уж несколько раз примерялся к нему с тяжёлой киянкой на короткой ручке, потом ещё с фунтовой гирькой, но мания естествоиспытательства в конце концов взяла во мне верх. Впрочем, возможно, мне было просто жаль этой странной вещи. Меня всегда привлекали разнообразные кунштюки.
Много раз на дню, стоя перед зеркалом, я светил в него карманным фонарём. Свет я видел, фонарь уже почти нет, себя же не видел вовсе. Ещё хуже обстояло дело со свечой. Огонёк её чётко отражался в зеркале, но руки своей, державшей свечу, я уже не видел. Зато начинали искажаться очертания коридора, кусочка кухни, который я мог ещё различить, а также комнаты, где в это время не горел свет.
Коридор, ведущий в кухню, у меня прямой и короткий, но только не теперь, но только не отражённый в этом проклятом зеркале. Он как-то странно стал изгибаться, сужаться, в нём появилось что-то двусмысленное, пугающее, загадочное…
Мурашкам, бегающим по моей спине, я был, кажется, даже рад.
Кухню теперь я уже почти не мог разглядеть, там было темно, и она как будто начиналась за одним или несколькими поворотами сего странного коридора.
И вот вдруг я как-то увидел человека, выглянувшего из кухни, но задержавшегося на минуту в коридоре.
– Кто? – крикнул я, мгновенно покрывшись холодным потом. Я быстро обернулся. Сзади никого не было. – Кто там? – крикнул ещё я и бросился в кухню.
Разумеется, там никого не было.