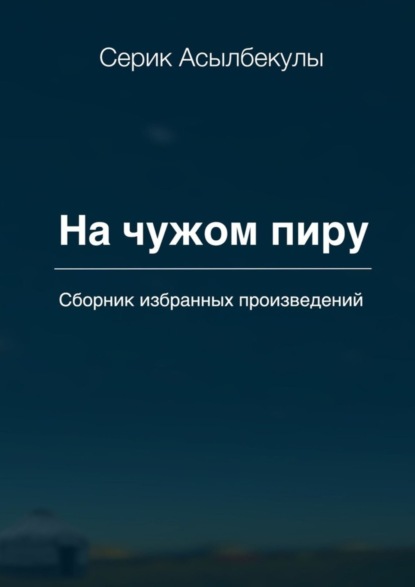По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На чужом пиру
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре родственники и земляки стали воспринимать присутсвие Толеутая в ауле как должное. Его же родные места стали тяготить, было тесно здесь после увиденных просторов. Кончилось это тем, что он уехал в город. Месяца три проработал на стройке, потом поступил на курсы железнодорожных машинистов. Три года отработал помощником, потом и сам стал машинистом. Жил в общежитии с такими же парнями, съехавшимися со всех концов страны. Там и встретил Сагилу. Женился. Пару лет мотались по квартирам с ребенком. Но и это прошло, как дурной сон. Пришел и на их улицу праздник – получили двухкомнатную квартиру в микрорайоне.
Рай, да и только. Особенно если вспомнить низкие и тесные домишки аула с их вечной сыростью и копотью. Чаще стали навещать близкие родственники, дальние – лучше помнили родство. Своя квартира давала Телеутаю вес и уважение в их глазах. Как не радоваться, когда, оказавшись по делам в городе, они бродили по всему микрорайону с клочком бумаги, спрашивая, где дом и квартира Толеутая. Для него это был большой почет. И поначалу он так гордился вниманием родни, что тратил, бывало, и половину зарплаты, поприличней встречая гостей. Те тоже не оставались в долгу: поживут два-три дня, уладят дела и давай уговаривать навестить их в ответ, будто и приехали только для того, чтобы пригласить в гости. Повод же для приглашения в аул всегда найдется: один выдает замуж любимую дочь, выращенную на самых изысканных яствах, другой готовится к обрезанию сына, – попробуй откажись… Сразу обиды: «мы что, хуже тех, кого ты удостоил приездом?.. Чем мы провинились… И подарков никаких не надо. Приезжайте всей семьей, для нас это будет лучший подарок. Заодно и на могиле матери побываешь… Одна причина – повод, две причины – обязанность…».
После всех этих просьб и уговоров, после оказанного уважения Толеутай так и открылялся. Улучив момент, когда у Сагилы хорошее настроение, начинал как бы размышлять вслух: «Эх, покупаться бы в Белой Излучине, поваляться на песочке, сразу бы вся городская зараза отстала: инфекция-минфекция – там один только воздух лучше всякого лекарства, а какой радушный народ аулчане?!».
Так, намекая, умоляя, упрашивал он в конце концов жену потратить тридцать-сорок рублей сверх семейного бюджета и на пару свободных дней выезжал в родные места. Аргументы для поездки обычны: не обидеть бы родственников, – но в действительности «обиды», «свадьбы», «поминки» – только внешняя причина, в внутренняя, порой бессознательная, всегда одна – тоска по родным местам.
Мало ли аулчан перебирается в город и пускает в нем прочные корни, отрываясь от прежних мест?! В глубине души Толеутай понимал: все могло быть иначе: проще и легче, – будь жива мать, живи она в его благоустроенной квартире в покое и достатке.
Толеутай долго стоял на вершине бархана, мысленно возвращаясь то к вчерашнему вечеру, то к событиям давно минувших дней. Несколько раз чуть было не шагнул в сторону кладбища, но в последний миг так и не решился отправиться туда в столь неподходящее время, да еще таком виде. И когда понял, что сегодня уже не побывает там, вздохнул: «В следующий раз обязательно приду на кладбище, зарежу барашка и пруглашу кого-нибудь из стариков почитать молитву над могилой. Не успел при жизни, хоть для души что-то сделаю…».
Туман, затягивавший горизонт, рассеялся. Грудь наполнил свежий весенний ветер с запахом дождя. Поник почерневший от сырости кустарник. Но вот вдали показался краешек солнца, и аул стал просыпаться, неторопливо и томно, как старый сытый кот на печи: где-то замычала корова, залаяла собака, загремело упавшее ведро. Толеутай услышал за спиной раскатистый кашель заядлого курильщика, обернулся. Мимо ворот Елемеса проходил Бухарбай. Его кряжистая фигура напоминала издали старый окаменевший пень. Топая кирзовыми сапогами на босу ногу, он гиал корову на выпас.
Толеутай обернулся, кровь бросилась в лицо, даже уши вспыхнули словно его застали на месте преступления. Затаив дыхание, на что-то еще надеясь, он потоптался на бархане со смущенным видом. Бухарбай же, попыхивая папироской, настырно делал вид, что не замечает его. «Вот собака!». Корова попыталась было свернуть к колодцу, он с маху вытянул ее хворостиной вдоль хребта.
– Куда, язва! Пошла!
Толеутай вздрогнул, будто удар этот предназначался ему. Чуть было не крикнул:
«Эй, пес!». Но прикусил язык, потому что именно в этот миг из дома вышла мать Бухарбая. С кумганом для омовения, старушка семенила за кошару.
***
После обеда Толеутай с женой и сыном отправились к магазину на остановку автобуса. К этому времени Елемес проводил сватов и устало радовался, что все обошлось без ссор и обид. Толеутая с семьей задерживать не стал, хотя до прихода автобуса было еще много времени, сказал на прощание:
– Ну, дорогие, спасибо, что уважили. Приезжайте почаще. Все, что имеет ваш старший брат, вы видели. Дарю Ерлану жеребенка от гнедой кобылы. А вы не забывайте родню. Как выдастся свободное время – милости просим!
Суетилась Катша, его жена, то что-то засовывая в сумки гостей, то прижимая к груди четырехлетнего Ерлана. Нет-нет, да и взглянет тайком на лицо Толеутая с расплывшимся под глазом синяком.
– Спасибо, ага! Конечно, приедем, – говорил он в ответ, пытаясь скрыть то, что творилось в душе. В глазах будто написано: «Вряд ли это будет возможно в ближайшее время, да и вообще…».
Вышли они слишком рано и пришлось долго простоять на пронизывающем ветру. Сагила с сыном забралась в будку сторожа магазина, и поскольку не звала мужа, злорадствуя и хмурясь, то Толеутай, по-прежнему надутый и обиженный, так и остался на ветру с развевающимися полами плаща.
Пасмурное небо, казалось, чуть поднялось над степью. Низко над землей летели рваные клочья белых облаков. На улице не видно ни одного праздно шатающегося, лишь грачи суетились на крышах, черные, как смоль, и трясли хвостами.
Взгляд Толеутая упал на приземистый заброшенный домик в конце аула…
Толеутай легонько вздохнул. Странная, спокойная печаль наполняла его, она не была похожа на прежнюю, ноющую старой раной тоску, ни на сожаленье о несбывшемся. Все прошло, все изменилось… И аул, и этот старый дом – все это мало походило на картины, живущие в душе. Лишь только вдали, там, где серпиком народившегося месяца изгибается обрывистый берег Акиина, – Белой Излучины, лишь там вечность, над которой на властны ни время, ни люди.
Есеке
У подножья кургана, среди бескрайних совхозных полей, сидят двое: юноша с доверчивыми глазами, с простодушным улыбчивым лицом, выпускник пединститута Лукпан Мырзабеков и учитель казахского языка Ешмурат Аманкулов, попросту Есеке, – мужчина преклонного возраста. Когда-то покойный отец, спасая сына от мясорубки Отечетвенной войны, занизил в метрике его возраст, и вот одногодки Есеке уже давно на заслуженном отдыхе, а он до сих пор по милости папаши вынужден возиться с детворой.
– Вы еще молоды, дорогой мой, – говорит старый учитель, нервно дергая головой и с неприязнью посматривая то на незнойное осеннее солнце, словно застывшее в небе, то на учеников, которые вместо того, чтобы аккуратно собирать остатки колосьев, валяются в копне соломы, бегают по рисовым ячейкам. – И все же, раньше жизнь была спокойней, народ благонравней… Пасмотрика, – вдруг вскрикивает он, снова сбиваясь с темы намечавшегося разговора.
Но юноша то ли по натуре слишком сдержан, то ли слов знает, куда гнет старик: не задает вопросов, не проявляет интереса к сказанному, только кивает головой, поигрывая стеблем курая.
– Посмотри-ка! – опять вскривает старый учитель, раздраженно тыча пальцем в сторону резвящихся детей. Голос звучит резче и злей, чем в первый раз. Со стороны непонятно, на что он злится: на играбщих детей или на тупость собеседника, не умеющего ценить сказанного.
– Нет, ты смотри! – говорит он уже спокойней. – Отчего еще такое может быть, если не от сытости и беззаботности? Раньше люди делали глупости по пьянке, а теперь безделия. Разве эти сорванцы не понимают, что помогают собирать урожай, которым страна будет кормиться весь год? Разумеется, понимают! Да что там они… Взять хотя бы нас: зачем мы здесь сидим, как два сыча на кладбище?
На этот раз старый учитель заставил-таки юного коллегу поднять голову, склонившуюся было к самой траве. Честно говоря, юноша даже растерялся, потому что до сих пор слушал из вежливости или делал вид, будто слушает. На самом деле его мысли были о молоденькой жене и грудом ребенке, оставленных в областном центре.
Мечтательная улыбка мгновенно слетела с юного лица, оно приняло глубокомысленный вид, будто в голове шла серьезная аналитическая работа над сказанным. И он вяло произнес:
– Есеке, что в этом страшного, ведь это солома?!
Лицо Есеке еще больше багровеет: «В таком возрасте у них уже ледяное сердце и пустая душа» – думает он зло о современной молодежи.
– Ну и пусть солома, – говорит чуть заикаясь, – это не значит, что ее можно разбрасывать… Попробуй-ка объясни это бригадиру… Ведь он как-то перед уполномоченным из райкома ругал нас за то, что вернулись с работы на десять минут раньше. Этот недоделанный начальник упрекал учителей в том, что они недисциплинированны… Попробуй определи, к чему он придерется на этот раз. У него хватит наглости отправить нас двоих к уполномоченному.
Дорогой мой, для учителей наступили тяжелые дни, – успокаиваясь, вздыхает Есеке: – На что нам надеяться в жизни, если даже захудалый бригадир распоряжается нами как хочет. А попробуй пожаловаться?! Любой начальник горой будет стоять за своего, потому что всем нужно одно – план!
Будто назло старшему молодой человек никак не реагирует на его слова. Есеке это очень не по душ. «О, боже, – думает он, злясь еще больше, —одарил меня добросовестным слушателем». Злится он и на директора школы, подарившего ему в напарники этого молчаливого юнца и отправившего старика с учениками к черту на кулички. При этом директор сыпал похвалой и лестью: «Тарторгай – самый далекий и ответсвенный совхоз, – говорил. – Туда надо послать опытного кадрового учителя, такого как Есеке, кто понимает что к чему. Не простое дело уследить за гурьбой детворы, организовать работу…».
Есеке вспомнил слова директора. «Ну и пройдоха!» – подумал, вздохнув. Ни с того ни с сего ему вдруг стало душно, и капли пота выступили на лбу.
– Работа учителя вся на нервах, будь она проклята, – бурчит он себе под нос, достает огромный носовой платок, вытирает красный затылок, затем, не спеша, остальные части лица. Но характер и прывычки не дают ему сидеть спокойно. Стоит помолчать минуту и страшная скука сжимает сердце. Он поворачивается к спутнику и, убедившись, что рядом какой ни есть, но живой человек, а не огородное пугало, благодарит бога уже за это и снова говорит:
– Вы молоды, дорогой мой, – опять начинает издалека. – Все мы были когда-то молодыми. Но у каждого поколения свое предначение… Вот вы смотрите на нас, стариков, и вамвсегда кажется, мы всегда были такими. Но представьте себе, что не так: мы многое пережили и многое увидели, прежде чем состариться. Мы помним лучшие времена. – Есеке вздыхает о чем-то. – Когда-то и народ был благонравней, и начальство добрей… – лицо Есеке смягчается, на нем появлятся полуулыбка, показывая, что и этот человек способен смеяться и по-настоящему радоваться: – Кстати, о бастыках, с покойным председателем Досакпаем я не раз за одним столом сиживал… Земля ему пухом. То был настоящий старообрядный казах, не терявший ни при каких обстоятельствах ни присутствия духа, ни достоинства, ни вкуса к жизни… Что настоящие бастыки?! Разоряются из-за всякого пустяка. А благословенный Досакпай был щедр, как джайляу, для всех, кого считал за своих близких людей.
Помнится, бегу я в школу с тетрадями под мышкой, а он стоит перед конторой, улыбается, приветствует меня: «Есеке, как ты твои дела? Надеюсь, идешь на выпас целым и здоровым?!».
Как ни лениво осеннее солнце, но к этому времени и оно сползло порядочно к горизонту, уже не слепило как в полдень, а добродушно сияло, как некогда лоснящееся лицо покойного председателя Досакпая. Шумела детвора в поле, которому нет и конца, ни края, и куда ни глянь – везде только оно. Но Есеке уже уже ничего не отвлекает от воспоминаний, ничто не раздражает, невидящими глазами, или, вернее, глазами, устремленными в себя, старик завелся, и его рассказу не будет конца.
– …Была первая послевоенная весна. Из конторы в школу прибежал человек и сказал, что Досеке зовет меня. Кто же может медлить, если зовет сам председатель?! Я тут же отпустил детей по домам и пулей помчался в контору.
Досеке сидел за своим огромным столом, и лицо его было задумчивым. Это было удивительное лицо: оно всегда было таким, какого было отношение председателя к собеседнику. Едва завидев меня, Досеке заулыбался. После взаимного приветствия сказал: «Не хочешь ли, юноша, на время стать моим телохранителем и секретарем? Поедем в одно место, до утра, там и у тебя будет возможность поразвлекаться».
Какие были мои годы, чтобы задумываться над подобными предложениями. Я тут же согласился, – голос старого учителя зазвучал громче и торжественней. Кажется, старик распалился воспоминаниями. Видимо, он говорил о самом важном и значительном в прожитой жизни.
– В сумерках на легкой председательской кошевке, запряженной парой сытых коней, мы выехали за село. Был март, похрустывала корочка подтаявшего было за день снега. К вечеру приморозило. Но Досеке не обращал внимания ни на холод, ни на тьму, поглядывал на звездное небо, что-то тихо напевал. Мне тоже хотелось неть, но это было бы невежливо по отношению к старшему, и я погонял кнутом лошадей, застоявшихся в конюшне, откормленных сухим овсом. Прядали они ушами, чуть не отрываясь от земли, как пушинку несли легкую кошевку.
Вижу, Досеке не против, что я погоняю коней. Лишь пробурчал тихо, словно по голове погладил: «Поосторожней, юноша!». Вскоре мы были в городе. Правлю я улочками и переулками, куда укажет председатель. Вот он сделал знак, и я остановил упряжку, выскочил из кошевки, постучал в тяжелые ворота. Где-то во дворе залаяла собака, скрипнула дверь, пес затих. Женский голос настороженно спросил, кто стучит. Досеке крякнул на вопрос хозяйки, ворота мигом распахнулись, и мы въехали в просторный двор. Встретившая нас женщина заперла ворота и молча повела нас в дом.
Только-только закончилась война. Кругом разруха, голод, нищета. Но беда будто и не коснулась дома, в который мы вошли: стены увешаны коврами, на полу мягкие паласы, кошмы с орнаментом, посреди комнаты накрыт дастархан, будто нас здесь поджидали или в этом доме стол всегда готов к приему гостей.
Не успел я осмотреться, как – уже внесли кипящий самовар. В тот же миг, блестя глазами как фурия, из соседней комнаты выскочила молоденькая женщина, она была одета еще красивей, чем встретившая нас, и тут же начала кокетничать, бросать завлекающие взгляды, как кошка напрашиваясь, чтобы ее погладили.
Я сидел, раскрыв рот. Но Досеке ничуть не растерялся: приподнялся с подушек и сказал улыбаясь:
– А, Катшажан, здравствуй!
Катша, непринужденно как артистка, легла рядом с председателем, шаловливо зашептала ему на ухо:
– Досеке, вы заставляете нас ждать, это никак не вяжется с вашими прежними привычками?! – и выговорто у этой бестии был какой-то особый – лопочет, как избалованный ребенок…
В сущности я – простой казах, родившийся и выросший в степи. И хотя меня, конечно же, радовали и убранство комнат и непринужденные манеры женщин, но некоторое время смущало шаловливое нахальство маленькой женщины в присутствии мужщин. Они с предсадателем, кажется, меня и за мужщину не принимали – жались друг к дружке, обнимались, смеялись, были заняты только сабой.