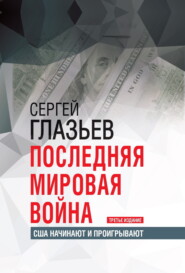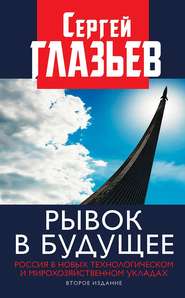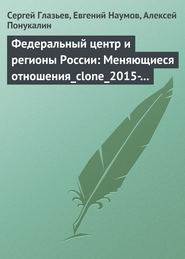По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Экономика будущего. Есть ли у России шанс?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одновременно со снижением объема денежной массы происходит падение производства и инвестиций, растет доля убыточных предприятий и проблемных кредитов. По итогам первого полугодия 2015 года объем просроченных кредитов вырос вдвое и достиг 2,2 трлн. руб. Это повлекло резкое ухудшение состояния банковского сектора, совокупный дефицит капитала которого оценивается в 1,5 трлн. руб. Нарастающая лавина банкротств коммерческих банков затягивает сбережения множества юридических и физических лиц. Если последним предоставляются компенсации, объем которых приближается к триллиону рублей, то для десятков тысяч предпринимателей эти банкротства имеют фатальные последствия. Индекс предпринимательских настроений упал до самого низкого за последние пять лет значения. Нестабильность и неопределенность стали главными факторами беспокойства делового сообщества.
Рис. 24. Падение конечного спроса вслед за сжатием кредита
(Источник: Ассоциация российских банков, 2015)
В результате указанных действий денежных властей произошла двукратная декапитализация национальной экономики, многие предприятия и банки оказались в предбанкротном состоянии, резко снизилась деловая активность и объем инвестиций (до 5 % по ВВП и до 8 % по инвестициям в основной капитал), существенно упали реальные доходы населения и вырос уровень бедности. Тем самым достигнута ключевая цель американских санкций – распространение кризисных явлений из спекулятивного сектора и сферы внешней торговли на воспроизводственные процессы, состояние национального дохода, уровень жизни населения.
Как было подробно показано в предыдущих разделах книги, попытки Банка России стабилизировать валютно-финансовый рынок путем повышения ключевой ставки процента не могли иметь успеха в условиях полностью открытого счета трансграничного движения капитала. Продолжающаяся безбрежная денежная эмиссия доллара, евро, фунта, франка и иены (их объем вырос после начала мирового финансового кризиса 2007 года в 2,7 раза (Табл. 6) создает гигантский денежный навес, обрушение даже небольшой части которого на российский рынок влечет его дестабилизацию.
Среднегодовая эмиссия указанных валют составляет около 750 млрд. долл., что втрое превышает объем рублевой денежной базы России и сопоставимо со всей денежной массой российской экономики. Большая часть этих денег не направляется банками на кредитование производственной сферы и зависает на финансовом рынке, подпитывая глобальные спекуляции. Получая от ФРС почти бесплатные кредитные ресурсы, американские финансовые структуры наращивают спекулятивные активы в деривативах, раздувая финансовый пузырь, объем которого уже превысил предкризисный (2007 год) уровень. Раздувание спекулятивно-финансового пузыря продолжается и в Европе – в течение ближайшего года ЕЦБ планирует эмитировать 60 млрд. евро ежемесячно. Масштабная эмиссия мировых валют привела к избытку средств на глобальном рынке, эти средства ищут все новые активы для вложений. Лавинообразное нарастание глобальных финансовых спекуляций неизбежно затрагивает и развивающиеся рынки, включая российский.
Табл. 6. Увеличение денежной базы и денежной массы мировых валют, млрд. долл. (2007–2015 гг.)
Денежная база, млрд. долл.
* по Китаю 2015 по состоянию на июнь 2015
Денежная масса, млрд. долл.
* по Китаю 2015 по состоянию на июнь 2015
Источник: М.Ершов по данным центральных банков соответствующих стран, 2015
Хотя российский финансовый рынок для западного капитала носит маргинальный характер (его капитализация составляет 0,6 % от мирового, а величина активов российской банковской системы в 18 раз меньше активов первой десятки банков мира (Рис. 25)), спекулянты не гнушаются возможностью получения сверхприбыли на его дестабилизации.
Норма прибыли на спекулятивных атаках в 1997–1998, 2007–2008 и в 2014 гг. составляла сотни процентов при соответствующих потерях (падении) ВВП России на 5 % или 70–80 млрд. долл. в годовом исчислении. Так, декабрьская атака на рубль принесла ее устроителям спекулятивную прибыль в размере 15–20 млрд. долл. Хотя в последнем случае не обошлось без кредитной поддержки Банка России, роль нерезидентов на российском финансовом рынке остается ключевой. Их доля превалирует в общем объеме валютно-финансовых операций на МБ, достигая накануне пика спекулятивной атаки 90 % и снижаясь до 2/3 после ее завершения.
Рис. 25. Относительный размер активов банков и финансового рынка России
(Источник: М.Ершов, 2015)
Доминирование нерезидентов на валютно-финансовом рынке дополняется контролем над самой биржей. После прошедшей два года назад реорганизации и приватизации в пользу крупнейших зарубежных и российских банков МБ выпала из-под контроля Банка России и оказалась в зависимом от спекулянтов положении. Как видно на схеме структуры собственности и управления МБ, многие члены ее руководящих органов и ведущие сотрудники аффилированы с рядом крупных зарубежных и российских финансово-кредитных организаций, которые «по случайности» получили самые большие прибыли от валютных спекуляций. По сути МБ и крупнейшие на российском рынке спекулянты, извлекающие сверхприбыли на дестабилизации рынка образовали симбиоз и манипулируют рынком при попустительстве Банка России и участии ряда высокопоставленных должностных лиц.
Вместо того чтобы выполнять функции центрального звена инфраструктуры валютно-финансового рынка, отвечающего за его стабильное функционирование в общих интересах на некоммерческой основе, МБ превращена своими акционерами в генератор сверхприбыли за счет дестабилизации рынка под предлогом «увеличения капитализации». Фактически МБ стала крупнейшим в российской экономике центром прибыли, совершив в прошлом году операций более чем на 4 трлн. долл., что вдвое больше российского ВВП и на порядок превышает все имеющиеся в стране депозиты и наличную валюту. Нетрудно посчитать, что 95 % оборота МБ составляют сугубо спекулятивные операции, не имеющие отношения к реальной экономике. Сверхприбыльность спекулятивных операций на российском рынке стимулирует приток международного спекулятивного капитала, мощность которого (50–60 млрд. долл. в квартал) затрудняет использование валютных резервов для стабилизации курса рубля.
Благодаря центральному положению МБ в формировании курса рубля, а последнего – в формировании цен на российском рынке, вся российская экономика оказывается в критической зависимости от нерезидентов. Их согласованные действия дестабилизировали макроэкономическую ситуацию, спровоцировали бегство капитала, вызвали падение экономической активности и инвестиций. Именно это позволило Обаме кичиться тем, что принятые по его решению экономические санкции «разорвали экономику России в клочья».
Необходимым условием успеха американских санкций была нейтрализация ЦБ как самостоятельного игрока, способного влиять на параметры валютно-финансового рынка. Для этого посредством навязывания Банку России рекомендаций МВФ по переходу к «таргетированию» инфляции из арсенала денежной политики были исключены общепринятые в мировой практике инструменты валютного регулирования и контроля за трансграничным движением капитала, стабилизации курса валюты. Денежно-валютная политика была сведена к использованию единственного инструмента – ключевой ставки. Заблаговременно была проведена подмена целей денежно-кредитной политики, из которых была исключена конституционная обязанность ЦБ по обеспечению устойчивости национальной валюты, замененная индексом потребительских цен.
Важным элементом механизма нейтрализации ЦБ является аналитическое и методическое обеспечение подготовки его проектов решений по внедренным МВФ виртуальным схемам и экономико-математическим моделям. Они неадекватны реальности, дают ложные оценки и ориентированы на псевдонаучное обоснование навязываемых МВФ рекомендаций путем подгонки статистических данных под спускаемые из Вашингтона параметры.
Примером может служить оценка Банком России разрыва выпуска, отражающая возможность наращивания ВВП исходя из степени использования факторов производства. По этому показателю в кейнсианской методологии принято оценивать возможности неинфляционного наращивания денежного предложения – до оптимальной загрузи факторов производства, сверх которой возможно усиление монетарной инфляции. При всей условности этого показателя он всерьез используется Банком России при принятии решений о смягчении или ужесточении кредитно-денежной политики. Если его измерять по состоянию загрузки производственных мощностей, то он составляет в настоящее время в промышленности 40 % (Рис. 26).
Рис. 26. Изменение уровня загрузки производственных мощностей в 2013 и в 2015 гг., в %
(Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 2016)
Аналитики ЦБ предпочитают его измерять по отношению к оптимальному, по их мнению, уровню безработицы, который они оценивают в 5 %. При этом они руководствуются официальной статистикой зарегистрированного безработного населения без учета скрытой безработицы, которая достигает 20 %, и без возможностей трудовой миграции из государств СНГ, которая превышает спрос на рабочую силу на российском рынке труда. К числу незадействованных в полной мере факторов производства следует добавить природные ресурсы, степень переработки которых не превышает половины, и научно-технический потенциал, используемый от силы на 20 %.
Таким образом, разрыв выпуска составляет для современного состояния российской экономики не менее 30 % возможного прироста ВВП при существующих факторах производства, в то время как аналитики ЦБ на основе заведомо недостоверных предпосылок оценивают его по полученным из МВФ моделям в 1,5 %. Тем самым они многократно занижают порог неинфляционного наращивания денежной базы и ставят ошибочный диагноз о «перегретости» российской экономики. На этом основании делается противоположный реальному положению вещей вывод о необходимости ужесточения денежной политики вместо крайне нужного для производственной сферы ее смягчения.
Абсурдность аналитических выкладок ЦБ с точки зрения как научной обоснованности, так и здравого смысла остается незамеченной вследствие как закрытости используемых банком России методик для экспертного сообщества, так и безоговорочной поддержки решений ЦБ со стороны МВФ и организаций – иностранных агентов, переваривающих западные гранты на проведение экономических «исследований». Эта поддержка, последовательно высказываемая на многочисленных форумах и в СМИ, основывается не на научном анализе, а на позиции МВФ и стоящего за ним казначейства США. Как говорилось выше о прошлогодней политике Банка России, она была сформулирована в Меморандуме сентябрьской (2014 год) миссии МВФ в Москве, предписания которого были в точности реализованы руководством ЦБ, несмотря на протесты делового сообщества, предостережения ученых и экспертов, а также практический опыт всех ведущих стран мира, которым МВФ давал противоположные рекомендации.
В результате ставки по кредитам нефинансовым организациям стали в России самыми высокими из крупных стран мира (Рис. 27), что резко ухудшило и без того слабые возможности российских предприятий по привлечению заемных средств (Рис. 28). Подавляющую часть прибыли они стали вкладывать в инвестиции (Рис. 29), пытаясь за счет акционеров поддержать хотя бы простое воспроизводство.
Рис. 27–28. Основные ставки центральных банков, %; ставки процента по кредитам нефинансовым организациям, %
(Источник: центральные банки соответствующих стран)
Рис 29. Структура финансирования инвестиций в основной капитал
(Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 2015)
Аналогичный «особый» подход к России МВФ демонстрировал и в своих рекомендациях относительно перехода к свободно плавающему курсу рубля при том что ни одна из ведущих стран мира не решилась на введение свободного плавания курса своей валюты. Как было показано выше, следствием отпускания рубля в свободное плавание стало рекордное в сравнении с другими странами, в том числе зависимыми от нефтяных цен, падение его обменного курса и обрушение финансового рынка (Рис. 30). Для этого не было объективных оснований.
Рис. 30. Распределение стран с развивающимися рынками по режимам валютного курса (%)
Несмотря на снижение нефтяных цен, по оценкам ОЭСР, курс рубля был и остается намного ниже его паритета покупательной способности (ППС), который рассчитывается путем соизмерения внутренних цен по большому числу компонентов товаров и услуг, обращающихся на рынках стран, по которым ведется сопоставление покупательной силы единиц их национальной валюты. В декабре 2014 года ОЭСР оценивала ППС американской и российской валют на уровне 19 рублей за 1 доллар. Учитывая то, что текущий рыночный курс в течение декабря составлял 50–68 руб./долл., можно говорить о том, что номинальный курс был ниже в среднем в 3–3,5 раза относительно курса, рассчитанного на основе ППС. Даже резкое падение нефтяных цен не могло существенно изменить это соотношение, что говорит об отсутствии фундаментальных причин обрушения курса рубля и ключевой роли спекулятивных факторов. В этой ситуации ЦБ имел все возможности поддерживать стабильный курс рубля стандартным образом: пресекая манипуляции рынком, проводя неожиданные для спекулянтов интервенции, регулируя спрос и предложение на валютном рынке посредством имеющихся у него инструментов. Отказ от их применения в расчете на управление ключевой ставкой в условиях уже начавшейся спекулятивной атаки был стратегической ошибкой. Повышение процентных ставок при этом не способствовало стабилизации курса и вызвало лишь стягивание денежной массы на валютный рынок, который перешел в турбулентное состояние (Рис. 31). Не способствовало оно, как и предупреждали ученые, и снижению инфляции (Рис. 32).
Рис. 31. Динамика ключевой ставки Банка России и курса рубля по отношению к доллару в 2014 г.
(Источник: М.Ершов, 2015)
Рис. 32. Процентные ставки и инфляция
(Источник: И.Лавровский, 2015)
Кроме России подобную «странную» политику проводят сегодня денежные власти только одного государства – Украины, с аналогичными последствиями. Лишь Украина прошла хуже России кризис 2007–2008 гг. и только украинская экономика сегодня падает вместе с российской на фоне роста производства во всех ведущих странах мира. Заинтересованы в такой политике исключительно иностранные спекулянты и экспортеры сырья. Первые получают возможность скупки российских активов за бесценок с последующим извлечением сверхприбыли на их перепродажах (более дешевый рубль снижает валютную стоимость внутренних российских активов; снижается эффективность привлечения внешних кредитов; одновременно повышается «эффективность» вхождения нерезидентов в российскую денежно-кредитную систему в целом), вторые получают сверхприбыли за счет удешевления трудовых и материальных затрат. Экономика в результате такой политики становится все более зависимой и примитивной.
Развитые и успешно развивающиеся страны наращивают кредитование своих экономик в целях форсированного перехода к новому технологическому укладу, который рождается на наших глазах. Темпы роста составляющих его ядро производств достигают 35 %-го ежегодного расширения масштаба применения его ключевых (нано-, биоинженерных и информационно-коммуникационных) технологий (Рис. 33).
Рис. 33. Структура нового (VI) технологического уклада
(Источник: О стратегии развития экономики России / Научный доклад под ред. С.Глазьева. – М.: Национальный институт развития, 2011)
В такие периоды государство форсирует как государственный спрос на новую продукцию, так и государственную поддержку инновационной активности, резко наращивая субсидирование НИОКР, льготное кредитование и налоговое стимулирование инвестиций в прорывные технологии. При этом, как показывает опыт внедрения передовых технологий, не происходит повышения инфляции. Напротив, она снижается вследствие многократного повышения эффективности, качества и роста разнообразия производства, что дает резкое снижение издержек, увеличение предложения товаров и услуг и, соответственно, падение цен. Рис. 33 иллюстрирует экономический эффект масштабных инвестиций в освоение нанотехнологий производства новых источников света (светодиодов), позволяющих добиваться многократного повышения эффективности использования электроэнергии и соответствующего снижения издержек на освещение.
Под влиянием Вашингтонских финансовых организаций российские денежные власти заблокировали возможности наращивания инвестиций, резко ухудшив условия кредитования российских предприятий и отрезав тем самым дорогу к модернизации и развитию российской экономики на основе нового технологического уклада и замыкая ее в ловушке технологического отставания.
Выше было показано, что рекомендации МВФ для России диаметрально противоположны практике передовых и успешно развивающихся стран. Они противоречат как рекомендациям академической науки, так и накопленному за полстолетия широчайшему практическому опыту. В том числе за последние 5 лет, в течение которых все ведущие страны мира действовали вопреки стандартным рекомендациям МВФ. Навязывание России заведомо вредных и неработающих рекомендаций стало одной из ключевых составляющих политики дестабилизации российской экономики.
Проведенный выше анализ раскрывает следующий алгоритм атаки на российскую финансовую систему. После нейтрализации Банка России посредством навязывания его руководству рекомендаций МВФ и «авторитетных» экспертов, исповедующих доктрину Вашингтонского консенсуса, Президент США объявил санкции, и начался нарастающий вывод капитала западными кредиторами и инвесторами. Затем последовала атака на рубль с целью обвала его курса и создания паники, чтобы спровоцировать ЦБ на повышение ключевой ставки, следствием чего автоматически стал лавинообразный рост экономических проблем: сжатие кредита, падение инвестиций и производства, банкротства банков, предприятий, рост безработицы и всплеск инфляции, что немедленно повлекло снижение доходов населения и ухудшение социально-политической ситуации. Дестабилизация макроэкономической ситуации остановила инвестиционную активность. Обесценение рублевых активов и удорожание валютных пассивов загнали значительную часть коммерческих банков за красную линию достаточности капитала, поставив финансово-банковскую систему на грань коллапса. С целью купирования банковского кризиса государству пришлось выделить 2 триллиона рублей за счет сокращения бюджетных расходов и соответствующего сокращения конечного спроса, что еще более усугубило падение деловой активности и производства.
Макроэкономические достижения последних 10 лет были подорваны профессиональной операцией, спланированной, рассчитанной и исполненной американскими специалистами с поражением ЦБ, руководство которого слепо выполняло рекомендации МВФ, когнитивным оружием. Двукратным обесценением национальной валюты и увеличением кредитной ставки экономика России была ввергнута в стагфляционную ловушку и в турбулентный режим функционирования финансового рынка. Это повлекло глубокое расстройство всей системы воспроизводства и сбило российскую экономику с траектории быстрого и устойчивого роста в рукотворный кризис.
Как следует из вышеизложенного, российские денежные власти оказались неспособны контролировать ситуацию на собственном валютно-финансовом рынке. В настоящее время он управляется извне западными мегаспекулянтами, под контролем которых находятся Московская и Лондонская биржи, депозитарно-клиринговые центры, пр. объекты финансовой инфраструктуры. Российская валютно-финансовая система поражена вследствие идеологической подверженности руководства и аналитических служб Банка России рекомендациям МВФ.
Финансовую агрессию против России можно было бы отразить, если бы после объявления американо-европейских санкций ЦБ ввел меры банковского и валютного контроля по защите нашей финансовой системы от внешних атак. Вместо этого он фактически выступил их орудием, заранее объявив об отказе от поддержания курса рубля на целевом уровне. Как показывает возврат курса рубля к предшествующему минимуму после годовых колебаний, ЦБ мог бы легко стабилизировать курс после его обрушения в декабре 2014 года более чем на год, не прибегая к масштабным интервенциям. Издержки от введения фиксированного курса при его резком и неожиданном для спекулянтов полуторакратном снижении были бы на порядок меньше сегодняшних проблем. ЦБ потратил бы намного меньше резервов на поддержание объективно обусловленного курса, спекулятивная атака бы захлебнулась, расширение кредита по неизменной ставке быстро бы обеспечило импортозаместительный рост производства и стабилизацию цен, как это было после финансово-бюджетного кризиса 1998 года.
Рис. 24. Падение конечного спроса вслед за сжатием кредита
(Источник: Ассоциация российских банков, 2015)
В результате указанных действий денежных властей произошла двукратная декапитализация национальной экономики, многие предприятия и банки оказались в предбанкротном состоянии, резко снизилась деловая активность и объем инвестиций (до 5 % по ВВП и до 8 % по инвестициям в основной капитал), существенно упали реальные доходы населения и вырос уровень бедности. Тем самым достигнута ключевая цель американских санкций – распространение кризисных явлений из спекулятивного сектора и сферы внешней торговли на воспроизводственные процессы, состояние национального дохода, уровень жизни населения.
Как было подробно показано в предыдущих разделах книги, попытки Банка России стабилизировать валютно-финансовый рынок путем повышения ключевой ставки процента не могли иметь успеха в условиях полностью открытого счета трансграничного движения капитала. Продолжающаяся безбрежная денежная эмиссия доллара, евро, фунта, франка и иены (их объем вырос после начала мирового финансового кризиса 2007 года в 2,7 раза (Табл. 6) создает гигантский денежный навес, обрушение даже небольшой части которого на российский рынок влечет его дестабилизацию.
Среднегодовая эмиссия указанных валют составляет около 750 млрд. долл., что втрое превышает объем рублевой денежной базы России и сопоставимо со всей денежной массой российской экономики. Большая часть этих денег не направляется банками на кредитование производственной сферы и зависает на финансовом рынке, подпитывая глобальные спекуляции. Получая от ФРС почти бесплатные кредитные ресурсы, американские финансовые структуры наращивают спекулятивные активы в деривативах, раздувая финансовый пузырь, объем которого уже превысил предкризисный (2007 год) уровень. Раздувание спекулятивно-финансового пузыря продолжается и в Европе – в течение ближайшего года ЕЦБ планирует эмитировать 60 млрд. евро ежемесячно. Масштабная эмиссия мировых валют привела к избытку средств на глобальном рынке, эти средства ищут все новые активы для вложений. Лавинообразное нарастание глобальных финансовых спекуляций неизбежно затрагивает и развивающиеся рынки, включая российский.
Табл. 6. Увеличение денежной базы и денежной массы мировых валют, млрд. долл. (2007–2015 гг.)
Денежная база, млрд. долл.
* по Китаю 2015 по состоянию на июнь 2015
Денежная масса, млрд. долл.
* по Китаю 2015 по состоянию на июнь 2015
Источник: М.Ершов по данным центральных банков соответствующих стран, 2015
Хотя российский финансовый рынок для западного капитала носит маргинальный характер (его капитализация составляет 0,6 % от мирового, а величина активов российской банковской системы в 18 раз меньше активов первой десятки банков мира (Рис. 25)), спекулянты не гнушаются возможностью получения сверхприбыли на его дестабилизации.
Норма прибыли на спекулятивных атаках в 1997–1998, 2007–2008 и в 2014 гг. составляла сотни процентов при соответствующих потерях (падении) ВВП России на 5 % или 70–80 млрд. долл. в годовом исчислении. Так, декабрьская атака на рубль принесла ее устроителям спекулятивную прибыль в размере 15–20 млрд. долл. Хотя в последнем случае не обошлось без кредитной поддержки Банка России, роль нерезидентов на российском финансовом рынке остается ключевой. Их доля превалирует в общем объеме валютно-финансовых операций на МБ, достигая накануне пика спекулятивной атаки 90 % и снижаясь до 2/3 после ее завершения.
Рис. 25. Относительный размер активов банков и финансового рынка России
(Источник: М.Ершов, 2015)
Доминирование нерезидентов на валютно-финансовом рынке дополняется контролем над самой биржей. После прошедшей два года назад реорганизации и приватизации в пользу крупнейших зарубежных и российских банков МБ выпала из-под контроля Банка России и оказалась в зависимом от спекулянтов положении. Как видно на схеме структуры собственности и управления МБ, многие члены ее руководящих органов и ведущие сотрудники аффилированы с рядом крупных зарубежных и российских финансово-кредитных организаций, которые «по случайности» получили самые большие прибыли от валютных спекуляций. По сути МБ и крупнейшие на российском рынке спекулянты, извлекающие сверхприбыли на дестабилизации рынка образовали симбиоз и манипулируют рынком при попустительстве Банка России и участии ряда высокопоставленных должностных лиц.
Вместо того чтобы выполнять функции центрального звена инфраструктуры валютно-финансового рынка, отвечающего за его стабильное функционирование в общих интересах на некоммерческой основе, МБ превращена своими акционерами в генератор сверхприбыли за счет дестабилизации рынка под предлогом «увеличения капитализации». Фактически МБ стала крупнейшим в российской экономике центром прибыли, совершив в прошлом году операций более чем на 4 трлн. долл., что вдвое больше российского ВВП и на порядок превышает все имеющиеся в стране депозиты и наличную валюту. Нетрудно посчитать, что 95 % оборота МБ составляют сугубо спекулятивные операции, не имеющие отношения к реальной экономике. Сверхприбыльность спекулятивных операций на российском рынке стимулирует приток международного спекулятивного капитала, мощность которого (50–60 млрд. долл. в квартал) затрудняет использование валютных резервов для стабилизации курса рубля.
Благодаря центральному положению МБ в формировании курса рубля, а последнего – в формировании цен на российском рынке, вся российская экономика оказывается в критической зависимости от нерезидентов. Их согласованные действия дестабилизировали макроэкономическую ситуацию, спровоцировали бегство капитала, вызвали падение экономической активности и инвестиций. Именно это позволило Обаме кичиться тем, что принятые по его решению экономические санкции «разорвали экономику России в клочья».
Необходимым условием успеха американских санкций была нейтрализация ЦБ как самостоятельного игрока, способного влиять на параметры валютно-финансового рынка. Для этого посредством навязывания Банку России рекомендаций МВФ по переходу к «таргетированию» инфляции из арсенала денежной политики были исключены общепринятые в мировой практике инструменты валютного регулирования и контроля за трансграничным движением капитала, стабилизации курса валюты. Денежно-валютная политика была сведена к использованию единственного инструмента – ключевой ставки. Заблаговременно была проведена подмена целей денежно-кредитной политики, из которых была исключена конституционная обязанность ЦБ по обеспечению устойчивости национальной валюты, замененная индексом потребительских цен.
Важным элементом механизма нейтрализации ЦБ является аналитическое и методическое обеспечение подготовки его проектов решений по внедренным МВФ виртуальным схемам и экономико-математическим моделям. Они неадекватны реальности, дают ложные оценки и ориентированы на псевдонаучное обоснование навязываемых МВФ рекомендаций путем подгонки статистических данных под спускаемые из Вашингтона параметры.
Примером может служить оценка Банком России разрыва выпуска, отражающая возможность наращивания ВВП исходя из степени использования факторов производства. По этому показателю в кейнсианской методологии принято оценивать возможности неинфляционного наращивания денежного предложения – до оптимальной загрузи факторов производства, сверх которой возможно усиление монетарной инфляции. При всей условности этого показателя он всерьез используется Банком России при принятии решений о смягчении или ужесточении кредитно-денежной политики. Если его измерять по состоянию загрузки производственных мощностей, то он составляет в настоящее время в промышленности 40 % (Рис. 26).
Рис. 26. Изменение уровня загрузки производственных мощностей в 2013 и в 2015 гг., в %
(Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 2016)
Аналитики ЦБ предпочитают его измерять по отношению к оптимальному, по их мнению, уровню безработицы, который они оценивают в 5 %. При этом они руководствуются официальной статистикой зарегистрированного безработного населения без учета скрытой безработицы, которая достигает 20 %, и без возможностей трудовой миграции из государств СНГ, которая превышает спрос на рабочую силу на российском рынке труда. К числу незадействованных в полной мере факторов производства следует добавить природные ресурсы, степень переработки которых не превышает половины, и научно-технический потенциал, используемый от силы на 20 %.
Таким образом, разрыв выпуска составляет для современного состояния российской экономики не менее 30 % возможного прироста ВВП при существующих факторах производства, в то время как аналитики ЦБ на основе заведомо недостоверных предпосылок оценивают его по полученным из МВФ моделям в 1,5 %. Тем самым они многократно занижают порог неинфляционного наращивания денежной базы и ставят ошибочный диагноз о «перегретости» российской экономики. На этом основании делается противоположный реальному положению вещей вывод о необходимости ужесточения денежной политики вместо крайне нужного для производственной сферы ее смягчения.
Абсурдность аналитических выкладок ЦБ с точки зрения как научной обоснованности, так и здравого смысла остается незамеченной вследствие как закрытости используемых банком России методик для экспертного сообщества, так и безоговорочной поддержки решений ЦБ со стороны МВФ и организаций – иностранных агентов, переваривающих западные гранты на проведение экономических «исследований». Эта поддержка, последовательно высказываемая на многочисленных форумах и в СМИ, основывается не на научном анализе, а на позиции МВФ и стоящего за ним казначейства США. Как говорилось выше о прошлогодней политике Банка России, она была сформулирована в Меморандуме сентябрьской (2014 год) миссии МВФ в Москве, предписания которого были в точности реализованы руководством ЦБ, несмотря на протесты делового сообщества, предостережения ученых и экспертов, а также практический опыт всех ведущих стран мира, которым МВФ давал противоположные рекомендации.
В результате ставки по кредитам нефинансовым организациям стали в России самыми высокими из крупных стран мира (Рис. 27), что резко ухудшило и без того слабые возможности российских предприятий по привлечению заемных средств (Рис. 28). Подавляющую часть прибыли они стали вкладывать в инвестиции (Рис. 29), пытаясь за счет акционеров поддержать хотя бы простое воспроизводство.
Рис. 27–28. Основные ставки центральных банков, %; ставки процента по кредитам нефинансовым организациям, %
(Источник: центральные банки соответствующих стран)
Рис 29. Структура финансирования инвестиций в основной капитал
(Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 2015)
Аналогичный «особый» подход к России МВФ демонстрировал и в своих рекомендациях относительно перехода к свободно плавающему курсу рубля при том что ни одна из ведущих стран мира не решилась на введение свободного плавания курса своей валюты. Как было показано выше, следствием отпускания рубля в свободное плавание стало рекордное в сравнении с другими странами, в том числе зависимыми от нефтяных цен, падение его обменного курса и обрушение финансового рынка (Рис. 30). Для этого не было объективных оснований.
Рис. 30. Распределение стран с развивающимися рынками по режимам валютного курса (%)
Несмотря на снижение нефтяных цен, по оценкам ОЭСР, курс рубля был и остается намного ниже его паритета покупательной способности (ППС), который рассчитывается путем соизмерения внутренних цен по большому числу компонентов товаров и услуг, обращающихся на рынках стран, по которым ведется сопоставление покупательной силы единиц их национальной валюты. В декабре 2014 года ОЭСР оценивала ППС американской и российской валют на уровне 19 рублей за 1 доллар. Учитывая то, что текущий рыночный курс в течение декабря составлял 50–68 руб./долл., можно говорить о том, что номинальный курс был ниже в среднем в 3–3,5 раза относительно курса, рассчитанного на основе ППС. Даже резкое падение нефтяных цен не могло существенно изменить это соотношение, что говорит об отсутствии фундаментальных причин обрушения курса рубля и ключевой роли спекулятивных факторов. В этой ситуации ЦБ имел все возможности поддерживать стабильный курс рубля стандартным образом: пресекая манипуляции рынком, проводя неожиданные для спекулянтов интервенции, регулируя спрос и предложение на валютном рынке посредством имеющихся у него инструментов. Отказ от их применения в расчете на управление ключевой ставкой в условиях уже начавшейся спекулятивной атаки был стратегической ошибкой. Повышение процентных ставок при этом не способствовало стабилизации курса и вызвало лишь стягивание денежной массы на валютный рынок, который перешел в турбулентное состояние (Рис. 31). Не способствовало оно, как и предупреждали ученые, и снижению инфляции (Рис. 32).
Рис. 31. Динамика ключевой ставки Банка России и курса рубля по отношению к доллару в 2014 г.
(Источник: М.Ершов, 2015)
Рис. 32. Процентные ставки и инфляция
(Источник: И.Лавровский, 2015)
Кроме России подобную «странную» политику проводят сегодня денежные власти только одного государства – Украины, с аналогичными последствиями. Лишь Украина прошла хуже России кризис 2007–2008 гг. и только украинская экономика сегодня падает вместе с российской на фоне роста производства во всех ведущих странах мира. Заинтересованы в такой политике исключительно иностранные спекулянты и экспортеры сырья. Первые получают возможность скупки российских активов за бесценок с последующим извлечением сверхприбыли на их перепродажах (более дешевый рубль снижает валютную стоимость внутренних российских активов; снижается эффективность привлечения внешних кредитов; одновременно повышается «эффективность» вхождения нерезидентов в российскую денежно-кредитную систему в целом), вторые получают сверхприбыли за счет удешевления трудовых и материальных затрат. Экономика в результате такой политики становится все более зависимой и примитивной.
Развитые и успешно развивающиеся страны наращивают кредитование своих экономик в целях форсированного перехода к новому технологическому укладу, который рождается на наших глазах. Темпы роста составляющих его ядро производств достигают 35 %-го ежегодного расширения масштаба применения его ключевых (нано-, биоинженерных и информационно-коммуникационных) технологий (Рис. 33).
Рис. 33. Структура нового (VI) технологического уклада
(Источник: О стратегии развития экономики России / Научный доклад под ред. С.Глазьева. – М.: Национальный институт развития, 2011)
В такие периоды государство форсирует как государственный спрос на новую продукцию, так и государственную поддержку инновационной активности, резко наращивая субсидирование НИОКР, льготное кредитование и налоговое стимулирование инвестиций в прорывные технологии. При этом, как показывает опыт внедрения передовых технологий, не происходит повышения инфляции. Напротив, она снижается вследствие многократного повышения эффективности, качества и роста разнообразия производства, что дает резкое снижение издержек, увеличение предложения товаров и услуг и, соответственно, падение цен. Рис. 33 иллюстрирует экономический эффект масштабных инвестиций в освоение нанотехнологий производства новых источников света (светодиодов), позволяющих добиваться многократного повышения эффективности использования электроэнергии и соответствующего снижения издержек на освещение.
Под влиянием Вашингтонских финансовых организаций российские денежные власти заблокировали возможности наращивания инвестиций, резко ухудшив условия кредитования российских предприятий и отрезав тем самым дорогу к модернизации и развитию российской экономики на основе нового технологического уклада и замыкая ее в ловушке технологического отставания.
Выше было показано, что рекомендации МВФ для России диаметрально противоположны практике передовых и успешно развивающихся стран. Они противоречат как рекомендациям академической науки, так и накопленному за полстолетия широчайшему практическому опыту. В том числе за последние 5 лет, в течение которых все ведущие страны мира действовали вопреки стандартным рекомендациям МВФ. Навязывание России заведомо вредных и неработающих рекомендаций стало одной из ключевых составляющих политики дестабилизации российской экономики.
Проведенный выше анализ раскрывает следующий алгоритм атаки на российскую финансовую систему. После нейтрализации Банка России посредством навязывания его руководству рекомендаций МВФ и «авторитетных» экспертов, исповедующих доктрину Вашингтонского консенсуса, Президент США объявил санкции, и начался нарастающий вывод капитала западными кредиторами и инвесторами. Затем последовала атака на рубль с целью обвала его курса и создания паники, чтобы спровоцировать ЦБ на повышение ключевой ставки, следствием чего автоматически стал лавинообразный рост экономических проблем: сжатие кредита, падение инвестиций и производства, банкротства банков, предприятий, рост безработицы и всплеск инфляции, что немедленно повлекло снижение доходов населения и ухудшение социально-политической ситуации. Дестабилизация макроэкономической ситуации остановила инвестиционную активность. Обесценение рублевых активов и удорожание валютных пассивов загнали значительную часть коммерческих банков за красную линию достаточности капитала, поставив финансово-банковскую систему на грань коллапса. С целью купирования банковского кризиса государству пришлось выделить 2 триллиона рублей за счет сокращения бюджетных расходов и соответствующего сокращения конечного спроса, что еще более усугубило падение деловой активности и производства.
Макроэкономические достижения последних 10 лет были подорваны профессиональной операцией, спланированной, рассчитанной и исполненной американскими специалистами с поражением ЦБ, руководство которого слепо выполняло рекомендации МВФ, когнитивным оружием. Двукратным обесценением национальной валюты и увеличением кредитной ставки экономика России была ввергнута в стагфляционную ловушку и в турбулентный режим функционирования финансового рынка. Это повлекло глубокое расстройство всей системы воспроизводства и сбило российскую экономику с траектории быстрого и устойчивого роста в рукотворный кризис.
Как следует из вышеизложенного, российские денежные власти оказались неспособны контролировать ситуацию на собственном валютно-финансовом рынке. В настоящее время он управляется извне западными мегаспекулянтами, под контролем которых находятся Московская и Лондонская биржи, депозитарно-клиринговые центры, пр. объекты финансовой инфраструктуры. Российская валютно-финансовая система поражена вследствие идеологической подверженности руководства и аналитических служб Банка России рекомендациям МВФ.
Финансовую агрессию против России можно было бы отразить, если бы после объявления американо-европейских санкций ЦБ ввел меры банковского и валютного контроля по защите нашей финансовой системы от внешних атак. Вместо этого он фактически выступил их орудием, заранее объявив об отказе от поддержания курса рубля на целевом уровне. Как показывает возврат курса рубля к предшествующему минимуму после годовых колебаний, ЦБ мог бы легко стабилизировать курс после его обрушения в декабре 2014 года более чем на год, не прибегая к масштабным интервенциям. Издержки от введения фиксированного курса при его резком и неожиданном для спекулянтов полуторакратном снижении были бы на порядок меньше сегодняшних проблем. ЦБ потратил бы намного меньше резервов на поддержание объективно обусловленного курса, спекулятивная атака бы захлебнулась, расширение кредита по неизменной ставке быстро бы обеспечило импортозаместительный рост производства и стабилизацию цен, как это было после финансово-бюджетного кризиса 1998 года.