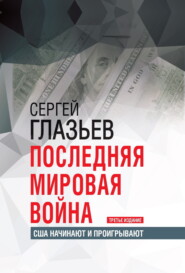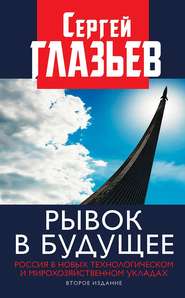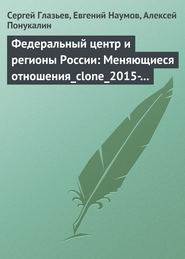По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Экономика будущего. Есть ли у России шанс?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Участие в процессе евразийской интеграции двух оставшихся новых независимых государств постсоветского пространства – Азербайджана и Туркмении – происходит в рамках второго контура в формате режима свободной торговли. Имея богатые ресурсы углеводородов, эти государства до последнего времени развивались за счет их экспорта, следствием чего стало их втягивание в зависимость от импортеров – соответственно Турции и Китая. Дальнейшее их участие в процессе евразийской интеграции находится в зависимости от отношений ЕАЭС с этими региональными сверхдержавами.
Таким образом, внутренний контур евразийской интеграции в сложившихся геополитических условиях близок к пределам своего расширения. Политически реалистичным остается включение в него Таджикистана и Узбекистана, что имеет большое, но не критическое значение: это придаст ЕАЭС дополнительные возможности увеличения конкурентных преимуществ и развития, но не изменит принципиально его положение в международном разделении труда. Вследствие деградации экономики России оно намного хуже положения Совета экономической взаимопомощи, объединявшего Восточную Европу и СССР и контролировавшего треть мировой экономики.
В настоящее время на ЕАЭС приходится всего 3,5 % мирового ВВП и 2,8 % международной торговли, что явно недостаточно для самодостаточного устойчивого развития (Табл. 5)[172 - Данные С.Рогова, Институт США и Канады РАН.]. Компенсировать относительно небольшой вес ЕАЭС в мировой экономике возможно только в рамках второго контура евразийской интеграции, выстраивая преференциальные режимы торгово-экономического сотрудничества с быстро растущими странами Евразии – Китаем, Индией, странами Индокитая, Ближнего и Среднего Востока.
Табл. 5. Показатели развития торгово-экономических коалиций в 2014 г. (в % от мировых)
Источники: http://data.worldbank.org/indicator и http://www.trademap.org
Первое соглашение о создании такого режима в формате зоны свободной торговли (ЗСТ) уже заключено с Вьетнамом. Идет проработка соглашений о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры – Южная Корея, Чили, ЮАР, Иран, Сирия, Индонезия. Начался диалог с Китаем по разработке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, достигнута договоренность о сопряжении процессов евразийской интеграции с китайской инициативой создания «Экономического пояса нового Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП).
Реализация инициативы глав России и Китая по сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – ЕАЭС и ЭПНВШП – открывает возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в создании условий для устойчивого развития Евразии. Эти инициативы могут органично сочетаться, дополняя и преумножая интеграционный эффект каждой из них[173 - Как России использовать китайское экономическое чудо // Доклад С.Ю.Глазьева для Изборского клуба. – Сентябрь 2015.]. Каждый из интеграционных проектов имеет свой набор инструментов реализации, включая институты развития – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд. долл.
Сочетание ЕАЭС и ЭПНВШП расширяет возможности каждого из этих интеграционных проектов. Начинать этот процесс можно с обеих сторон. Со стороны ЕАЭС – предложить к реализации уже разработанные, но не начатые инвестиционные проекты по развитию трансконтинентальной транспортной инфраструктуры – железнодорожных, автомобильных магистралей и авиационных коридоров. Однако, несмотря на стратегический характер партнерства между КНР и Россией, выбор конкретных маршрутов для создания трансевразийских коридоров развития неоднозначен. Китай проводит активную работу по развитию альтернативных трансконтинентальных маршрутов через Центральную Азию, Закавказье, Средний Восток и Турцию.
Целесообразным представляется установление преференциального режима торговли между ЕАЭС и АСЕАН. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии формируют ЕЭП с общим рынком 615 млн. человек. Экономики входящих в это объединение 10 государств во многом дополняют экономику государств ЕАЭС, что создает широкие перспективы сотрудничества без угнетающего воздействия на отечественных товаропроизводителей. АСЕАН имеет отношения свободной торговли с Индией, а ЕАЭС создало ЗСТ с Вьетнамом. Создание особого режима торгово-экономических отношений между АСЕАН и ЕАЭС позволило бы сделать существенный шаг на пути реализации идеи создания ЕЭП от «Лиссабона до Владивостока». Во всяком случае, это открыло бы возможность формирования ЕЭП от Петербурга до Джакарты, включающей ЕАЭС, Индию, АСЕАН с общим рынком 2 млрд. человек и ВВП 6,6 трлн. долл. (по ППС – 16,5 трлн. долл.).
Симфония гармонично дополняющих друг друга режимов торгово-экономических отношений в сочетании с возможностями привлечения средств для инвестиций в транспорт, логистику и инфраструктуру из уже имеющихся международных региональных институтов развития дают возможность создания общего пространства развития, включая строительство надежных транспортно-логистических коридоров и технологических цепочек производственной кооперации, связывающих ЕАЭС с остальной частью Евразии. Совместное использование находящихся в арсенале ЕАЭС и других интеграционных группировок в Евразии институтов открывает дополнительные возможности для реализации интеграционного потенциала каждого из этих проектов. Например, можно сочетать формирование единого воздушного пространства и открытие новых воздушных коридоров с переходом на самолеты собственной разработки и изготовления в рамках российско-китайско-индийско-иранской кооперации. Или открытие внутренних водных путей со строительством и использованием судов собственного производства. Или сооружение трансконтинентальных транспортных коридоров с развитием собственной базы железнодорожного и автодорожного машиностроения. Аналогичный подход может быть применен к формированию общего энергетического пространства, которое должно сопровождаться созданием общей машиностроительной базы. Скажем, доступ к источникам природных ресурсов может быть обусловлен разработкой, производством и использованием отечественных машин и оборудования. Доступ к трубопроводным системам – инвестициями в их модернизацию и повышение эффективности.
Россия потенциально могла бы переключить на себя значительную часть евроазиатских товарных потоков. При 50 %-ой российской доле в доходах транспортных систем, это составит 1,5–2,5 трлн. долл. – сумма, превышающая объем российского ВВП. Сегодня Россия обслуживает не более 5–7 % потенциального объема евразийского рынка транспортно-логистических услуг.
Утверждение России как ключевого транспортно-коммуникационного звена единой евразийской инфраструктуры позволило бы сблизить сырьевые и промышленные регионы России, способствовало бы развитию производственных комплексов и социально-экономической сферы на обширных восточных территориях. Получили бы импульс к развитию железнодорожная, металлургическая отрасли, горнорудная промышленность, речное судостроение и судоходство, технологии энергосбережения, космические средства навигации, газовая промышленность, лесопромышленность, телекоммуникационные и другие технологии.
Процесс расширения евразийской интеграции по обоим контурам ведется в соответствии с нормами ВТО и не преследует целей отгораживания от остальной части мирового рынка. Он основан на равноправном взаимовыгодном партнерстве и открыт для всех стран, желающих сотрудничать в целях расширения возможностей развития и повышения конкурентоспособности национальных экономик путем их взаимодополнения и сочетания сравнительных преимуществ.
В качестве альтернативы процессу евразийской интеграции США и их союзники пытаются реализовать уже упоминавшиеся выше проекты Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства США-ЕС и Транстихоокеанского партнерства, предусматривающие формирование двух гигантских зон преференциального торгово-экономического режима на выгодных для американских корпораций условиях. Таким образом США рассчитывают упрочить свое центральное положение в мировой торгово-экономической системе, ухудшив условия торговли для Китая, Индии, других государств ШОС и ЕАЭС, в отношении продукции которых на территориях этих торгово-экономических суперблоков будут действовать более высокие ставки пошлин и нетарифные барьеры, чем между государствами-членами.
В конкуренции евразийского и трансокеанского подходов к формированию сверхкрупных зон преференциального торгово-экономического режима большую перспективу имеет первый. Это следует из охарактеризованных во втором разделе закономерностей длинных циклов глобального экономического развития, согласно которым центр мировой экономики перемещается в Юго-Восточную Азию. Отсутствие в трансокеанском проекте наиболее крупных стран развивающегося мира, формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада – Китая и Индии – лишает его перспективы. В то же время этот интеграционный проект может ухудшить положение России, снижая возможности доступа российских товаров на самый крупный в Евразии рынок ЕС и затрудняя расширение евразийской интеграции на Дальнем Востоке и в АСЕАН. Из этого следует необходимость ускорения расширения второго контура процесса евразийской интеграции.
Для эффективной реализации потенциала евразийской интеграции России необходимо освоение методологии стратегического планирования, исходящей из национальных интересов и позволяющей на равных взаимодействовать с Китаем. В рамках этой методологии необходима разработка, принятие и реализация системы мер, сочетающей приоритетное и опережающее развитие восточных регионов России с развитием евразийской интеграции «по всем азимутам» с целью создания устойчивой и благоприятной сети международных экономических и политических отношений.
Россия может поймать «азиатский ветер» в «паруса» своего пространственного и технологического развития потому, что транспортные коридоры, проходящие по российской территории, будут способствовать увеличению объемов товарообмена между АТР и другими регионами континента. В настоящее время около 60 % мирового валового продукта создается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, общая стоимость мировых перевозок оценивается в 3–5 трлн. долл., значительная часть их производится морским путем за длительные сроки. При этом 80 % общей протяженности потенциально оптимальных по экономическим параметрам международных коридоров широтного направления от Восточной Азии до Атлантики составляют транспортные сети России.
Развитие транспортной инфраструктуры Евразии – важнейшая составляющая реализации заявленного Президентом России плана создания зоны гармоничного сотрудничества в Евразии «от Лиссабона до Владивостока». Она сочетается с планами ЕС по развитию высокотехнологичных транспортных коридоров с соседними странами на востоке. По прогнозам, объем межрегиональных наземных грузовых перевозок между Евросоюзом и странами-соседями увеличится к 2020 году в 2 раза по сравнению с объемами конца XX века. Евросоюз объективно заинтересован в согласовании четкого алгоритма долгосрочного сотрудничества с ЕАЭС и АТР. Прежде всего, это касается совместных инвестиций в транспортную инфраструктуру и коммуникации, позволяющие создать прочный экономический базис, неподверженный угрозам политической конъюнктуры.
Несмотря на очевидное полное соответствие процесса евразийской экономической интеграции общепринятым в мире стандартам создания региональных экономических объединений, включая нормы ВТО, США пытаются его дискредитировать, надеясь остановить развитие ЕАЭС[174 - 6 декабря 2012 г. Государственный секретарь США Х.Клинтон заявила в Дублине: «в США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции, создаваемый по принуждению Москвы».]. Преодолению настороженного отношения к евразийской интеграции должно способствовать повышение экономической привлекательности альянса для тяготеющих к ЕАЭС стран и эффективности органов управления интеграцией.
В силу своего исторического опыта, духовных традиций, геополитического значения Россия является естественным центром евразийской интеграции, которая действительно может охватить территорию от Лиссабона до мыса Дежнева по широте и от Новой Земли до Индонезии по долготе. Таков потенциал евразийского проекта, который может стать важнейшей составляющей формирования нового мирохозяйственного уклада.
Процесс евразийской интеграции может стать объединением стран и народов, заинтересованных в сохранении своих национальных традиций, духовных ценностей и культурных особенностей при стремлении к освоению передовых технологий ради экономического благополучия. Но реализовать этот проект можно только тогда, когда Россия будет являть образец справедливого, эффективного и гуманного государственного устройства. Это невозможно без кардинального изменения экономической политики России и формулирования ею привлекательной модели развития и расширения ЕАЭС. Иными словами, чтобы реализовать потенциал евразийской интеграции, России необходимо рационально распорядиться своим природно-ресурсным, географическим и управленческим потенциалом, вернуть исторические смыслы и провести технологическую модернизацию экономики, реализовав, наконец, стратегию опережающего развития на основе нового технологического уклада[175 - С.Глазьев. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. М., 2011.].
Раздел IV
О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития
Настоящий раздел представляет собой авторский доклад, обсуждение которого состоялось 30 октября 2015 года на Научном совете РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию. Во многом он опирается на приведенные выше результаты анализа закономерностей и тенденций глобального экономического развития, а также оценки состояния российской экономики и последствий проводимой макроэкономической политики. Поэтому в нем содержатся краткие повторы некоторых изложенных выше мыслей, фактов и выводов. Они оставлены, чтобы не нарушать логику этого доклада и системность подхода, а искушенный читатель может сразу перейти к мерам экономической политики, которые обосновываются во второй части данного раздела.
Как уже было показано выше, непосредственной причиной стагфляции, проявляющейся в дестабилизации курса рубля и повышении инфляции с одной стороны и падении инвестиций и экономической активности с другой стороны, является отток капитала, объем которого за два года «таргетирования» инфляции составил около 250 млрд. долл. В том числе не менее трети составляет нелегальный отток, совершаемый с уводом доходов от налогообложения с ущербом для госбюджета до нескольких триллионов рублей ежегодно.
Выше также было показано, что нарастающий отток капитала, накопленный вывоз которого оценивается более чем в триллион долларов за прошедшее десятилетие, связан с беспрецедентной для крупных стран офшоризацией и открытостью российской экономики, следствием чего стала чрезвычайная уязвимость ее финансовой системы от внешних факторов. Более половины денежной базы сформировано под внешние источники кредита. При этом подавляющая часть внешних займов получена из стран, находящихся под юрисдикцией государств-членов НАТО. Их вывод влечет двукратное сжатие денежной базы и финансового рынка. Ужесточение санкций может привести к блокированию российского капитала в офшорных зонах, через которые ежегодно проходит свыше трети негосударственных инвестиций.
ЦБ не предпринимает мер ни по прекращению оттока капитала, ни по замещению иссякающих внешних источников кредита внутренними. В результате происходит сжатие денежной базы, что влечет сокращение кредита, падение инвестиций и производства, провоцирует дефолты множества заемщиков, которые могут приобрести лавинообразный характер. При этом снижения инфляции не происходит как вследствие продолжающегося действия ее немонетарных факторов, так и повышения издержек из-за удорожания кредита, сокращения производства и падения курса рубля. Последнее из-за недоступности кредита не дает позитивного эффекта для расширения экспорта и импортозамещения и лишь разгоняет инфляцию. Экономика искусственно затягивается в воронку сокращающегося спроса и предложения, падающих доходов и инвестиций. Попытки удержать доходы бюджета за счет увеличения налогового пресса усугубляют бегство капитала и падение деловой активности. Сокращение реальных доходов населения отбросило российское общество по уровню бедности в 2003 год, нивелировав социальный эффект экономического роста последнего десятилетия.
Важно еще раз подчеркнуть, что втягивание экономики в стагфляционную ловушку происходит исключительно вследствие проводимой макроэкономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Падение производства и инвестиций происходит при наличии свободных производственных мощностей, загрузка которых в отраслях промышленности составляет 30–80 %, неполной занятости, превышении сбережений над инвестициями, избытке сырьевых ресурсов. Экономика работает не более чем на 2/3 своей потенциальной мощности, продолжая оставаться донором мировой финансовой системы.
Чтобы выйти из стагфляционной ловушки, нужно остановить скольжение по спирали «бегство капитала – сокращение денежного предложения – падение спроса и сжатие кредита – повышение издержек – рост инфляции, падение производства и инвестиций». В настоящем докладе обосновываются необходимые для этого меры государственной макроэкономической политики с учетом сложившейся на внутреннем рынке ситуации и внешних угроз. Им предшествует анализ причин обострения этих угроз и факторов поражения российской экономики.
Глава 1. Угрозы экономической безопасности России в условиях американской агрессии
Объективная и субъективная составляющие антироссийской агрессии
Агрессия США против России и захват ими контроля над Украиной является составной частью мировой гибридной войны, ведущейся Вашингтоном с целью удержания мирового лидерства в нарастающей конкуренции с Китаем. Россия избрана в качестве направления главного удара в силу сочетания объективных и субъективных обстоятельств.
В предыдущем разделе было показано, что объективно эскалация международной военно-политической напряженности обусловлена сменой технологических и мирохозяйственных укладов, в ходе которой происходит глубокая структурная перестройка экономики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов воспроизводства капитала. В такие периоды, как показывает многовековой опыт развития мировой торгово-экономической системы, происходит резкая дестабилизация системы международных отношений. Разрушение старого и формирование нового миропорядка сопровождается сменой лидеров мирового экономического развития, которая до сих пор опосредовалась мировыми войнами.
В настоящий период на волне роста нового технологического уклада вперед вырывается Китай, который вместе с Индией и другими странами Юго-Восточной Азии формирует центр нового мирохозяйственного уклада. Сталкиваясь с перенакоплением капитала в финансовых пирамидах и устаревших производствах, а также с утратой рынков сбыта своей продукции и падением доли доллара в международных транзакциях, США стремятся удержать лидерство путем развязывания мировой войны с целью ослабления как конкурентов, так и партнеров. Им нужен контроль над Россией, Средней Азией и Ближним Востоком, чтобы обеспечить себе стратегическое преимущество в управлении поставками критически значимых сырьевых ресурсов и ограничить возможности Китая. Усиление давления на ЕС, Японию и Южную Корею ведется с целью втягивания их в выгодные США и закрытые для Китая преференциальные торговые режимы, а также для контроля над рынком высокотехнологической продукции с целью сохранения американского доминирования в создании новых знаний и разработке передовых технологий.
Результаты экономико-математического моделирования циклов разной периодичности свидетельствуют о наложении их нисходящих фаз и кризисных точек в период 2014–2020 годов. Одновременная смена технологических и мирохозяйственных укладов в сочетании с поворотными точками инвестиционного цикла Кузнеца и делового цикла (Рис. 22) создает опасный эффект резонанса, чреватый коллапсом мировой финансово-экономической системы.
Рис. 22. Глобальный кризис как сочетание циклических процессов
(Источник: О новой методологии долгосрочного циклического прогнозирования динамики развития мировой экономики / В.Садовничий, А.Акаев. – Сайт «Социальный анализ и моделирование», 2009)
Последняя вошла в турбулентный режим с ярко выраженным 7-летним циклом повторения финансовых кризисов (Рис. 23).
Выход из этой турбулентности на траекторию устойчивого роста будет сопровождаться катастрофическими последствиями для стран, не создавших своевременно технологические, экономические и политические предпосылки нового подъема. Американское руководство сделало ставку на стратегию сбрасывания накопленных проблем на другие страны путем развязывания мировой гибридной войны. Ее главной целью в соответствии со старой западноевропейской геополитической традицией вновь определено уничтожение России. И, как всегда, англосаксы делают это чужими руками, взращивая русофобский неонацистский режим на Украине и разгоняя волну исламского экстремизма на Ближнем и Среднем Востоке. Тем самым они стремятся втянуть Россию в мировую войну на два фронта: против НАТО на Западе и Исламского государства на Юге. Одновременно они пытаются создать напряженность на Дальнем Востоке путем провоцирования корейского и японо-китайского конфликтов.
Субъективно антироссийская агрессия объясняется раздражением американского руководства самостоятельным внешнеполитическим курсом Президента России на широкую евразийскую интеграцию – от создания ЕАЭС и ШОС до инициатив по формированию ЕЭП от Лиссабона до Владивостока. США опасаются формирования независимых от них глобальных контуров расширенного воспроизводства, прежде всего, странами БРИКС.
Рис. 23. Цикличность провалов (динамика индексов S&P500, %)
(Источник: М.Ершов по данным Bloomberg. – Эксперт. – № 36, 2015)
Исторический опыт России в организации глобальных интеграционных проектов предопределяет антироссийский вектор американской агрессивности, геополитика которой традиционно носит русофобский характер. При этом происходит демонизация Президента России, которого Вашингтон считает главным виновником в утрате контроля над Россией и Средней Азией, а проводимую им самостоятельную внешнюю политику рассматривает в качестве ключевой угрозы своему глобальному доминированию.
Даже если удастся остановить американскую агрессию на Украине и купировать украинский кризис, не вызывает сомнений неизбежность длительного и существенного ухудшения торгово-экономических отношений между Россией и государствами-членами НАТО, а также другими зависимыми от США странами. С учетом высокой внешней зависимости российской экономики и отсутствия решающего влияния на международные средства взаимодействия (финансовые, информационные, дипломатические), это создает серьезные угрозы национальной безопасности. Наиболее острые из них касаются рисков замораживания валютных активов, отключения российских банков от международных платежных и информационных систем, запретов на поставки высокотехнологической продукции, ухудшения условий российского экспорта.
Дестабилизация валютно-финансовой системы – главное направление американской агрессии
В ведущейся США против России гибридной войне ключевое место занимает финансово-экономический фронт, на котором противник – США и их союзники – имеет подавляющее преимущество. Они используют свое доминирование в мировой валютно-финансовой системе для манипулирования финансовым рынком России и дестабилизации ее макроэкономического положения, подрыва механизмов воспроизводства и развития экономики. Делается это путем сочетания финансового эмбарго и спекулятивных атак против российской валютно-финансовой системы.
С одной стороны, американские власти блокируют средне- и долгосрочные кредиты и инвестиции западного капитала для российской экономики. С другой стороны, они не ограничивают краткосрочные операции, создавая возможности для финансирования спекуляций любого объема на российском рынке. В результате одновременного оттока долгосрочного капитала и притока краткосрочной спекулятивной ликвидности валютно-финансовая система теряет устойчивость и опрокидывается в турбулентный режим.
В предыдущих разделах было показано, как вследствие сверхприбыльности спекулятивных операций по манипулированию валютно-финансовым рынком, в которые втягиваются крупные отечественные кредитно-финансовые организации и денежные власти, возникает спекулятивная воронка, всасывающая имеющуюся в экономике ликвидность. Параллельно расширению кредитной эмиссии на рефинансирование коммерческих банков растет величина их валютных активов. Это означает, что большую часть получаемых от ЦБ кредитов они направляют на валютно-финансовые спекуляции. Это не дает возможности заместить внешние источники кредита внутренними, которые втягиваются в спекулятивную воронку и вымывают валютные резервы. Стремясь их сохранить, ЦБ уходит с валютного рынка, оставляя его целиком в руках у спекулянтов. Последние используют свои связи с Московской биржей (МБ) для манипулирования рынком, разгоняя колебания курса рубля до трехзначных процентов прибыли на заранее спланированных спекулятивных операциях.
Неуправляемая «болтанка» курса рубля дезорганизует замкнутые на внешний рынок воспроизводственные контуры российской экономики, влечет всплески инфляции и падение производства. Утрата ценностных ориентиров и лихорадочное состояние финансового рынка делают невозможным расширенное воспроизводство реального сектора экономики. Предприятия свертывают производственные инвестиции и направляют высвобождающиеся средства на финансовый рынок.
Попытки Банка России остановить спекуляции против рубля повышением ключевой ставки и сжатием денежной массы в ситуации турбулентности финансового рынка окончательно замыкают денежные потоки в спекулятивной воронке. Повышение процентных ставок по кредитам до уровня, многократно превышающего рентабельность производственной сферы, отрезает последнюю от банковских кредитов. Лишь пятая часть отраслей промышленности имеет рентабельность продаж выше текущего уровня средней ставки процента, подавляющая часть производственной сферы не может пользоваться кредитом для финансирования не только инвестиций, но и оборотного капитала. Сжатие кредита влечет сокращение инвестиций предприятий и расходов населения (Рис. 24), что сокращает конечный спрос и еще больше усиливает спад производства.
Таким образом, внутренний контур евразийской интеграции в сложившихся геополитических условиях близок к пределам своего расширения. Политически реалистичным остается включение в него Таджикистана и Узбекистана, что имеет большое, но не критическое значение: это придаст ЕАЭС дополнительные возможности увеличения конкурентных преимуществ и развития, но не изменит принципиально его положение в международном разделении труда. Вследствие деградации экономики России оно намного хуже положения Совета экономической взаимопомощи, объединявшего Восточную Европу и СССР и контролировавшего треть мировой экономики.
В настоящее время на ЕАЭС приходится всего 3,5 % мирового ВВП и 2,8 % международной торговли, что явно недостаточно для самодостаточного устойчивого развития (Табл. 5)[172 - Данные С.Рогова, Институт США и Канады РАН.]. Компенсировать относительно небольшой вес ЕАЭС в мировой экономике возможно только в рамках второго контура евразийской интеграции, выстраивая преференциальные режимы торгово-экономического сотрудничества с быстро растущими странами Евразии – Китаем, Индией, странами Индокитая, Ближнего и Среднего Востока.
Табл. 5. Показатели развития торгово-экономических коалиций в 2014 г. (в % от мировых)
Источники: http://data.worldbank.org/indicator и http://www.trademap.org
Первое соглашение о создании такого режима в формате зоны свободной торговли (ЗСТ) уже заключено с Вьетнамом. Идет проработка соглашений о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры – Южная Корея, Чили, ЮАР, Иран, Сирия, Индонезия. Начался диалог с Китаем по разработке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, достигнута договоренность о сопряжении процессов евразийской интеграции с китайской инициативой создания «Экономического пояса нового Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП).
Реализация инициативы глав России и Китая по сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – ЕАЭС и ЭПНВШП – открывает возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в создании условий для устойчивого развития Евразии. Эти инициативы могут органично сочетаться, дополняя и преумножая интеграционный эффект каждой из них[173 - Как России использовать китайское экономическое чудо // Доклад С.Ю.Глазьева для Изборского клуба. – Сентябрь 2015.]. Каждый из интеграционных проектов имеет свой набор инструментов реализации, включая институты развития – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд. долл.
Сочетание ЕАЭС и ЭПНВШП расширяет возможности каждого из этих интеграционных проектов. Начинать этот процесс можно с обеих сторон. Со стороны ЕАЭС – предложить к реализации уже разработанные, но не начатые инвестиционные проекты по развитию трансконтинентальной транспортной инфраструктуры – железнодорожных, автомобильных магистралей и авиационных коридоров. Однако, несмотря на стратегический характер партнерства между КНР и Россией, выбор конкретных маршрутов для создания трансевразийских коридоров развития неоднозначен. Китай проводит активную работу по развитию альтернативных трансконтинентальных маршрутов через Центральную Азию, Закавказье, Средний Восток и Турцию.
Целесообразным представляется установление преференциального режима торговли между ЕАЭС и АСЕАН. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии формируют ЕЭП с общим рынком 615 млн. человек. Экономики входящих в это объединение 10 государств во многом дополняют экономику государств ЕАЭС, что создает широкие перспективы сотрудничества без угнетающего воздействия на отечественных товаропроизводителей. АСЕАН имеет отношения свободной торговли с Индией, а ЕАЭС создало ЗСТ с Вьетнамом. Создание особого режима торгово-экономических отношений между АСЕАН и ЕАЭС позволило бы сделать существенный шаг на пути реализации идеи создания ЕЭП от «Лиссабона до Владивостока». Во всяком случае, это открыло бы возможность формирования ЕЭП от Петербурга до Джакарты, включающей ЕАЭС, Индию, АСЕАН с общим рынком 2 млрд. человек и ВВП 6,6 трлн. долл. (по ППС – 16,5 трлн. долл.).
Симфония гармонично дополняющих друг друга режимов торгово-экономических отношений в сочетании с возможностями привлечения средств для инвестиций в транспорт, логистику и инфраструктуру из уже имеющихся международных региональных институтов развития дают возможность создания общего пространства развития, включая строительство надежных транспортно-логистических коридоров и технологических цепочек производственной кооперации, связывающих ЕАЭС с остальной частью Евразии. Совместное использование находящихся в арсенале ЕАЭС и других интеграционных группировок в Евразии институтов открывает дополнительные возможности для реализации интеграционного потенциала каждого из этих проектов. Например, можно сочетать формирование единого воздушного пространства и открытие новых воздушных коридоров с переходом на самолеты собственной разработки и изготовления в рамках российско-китайско-индийско-иранской кооперации. Или открытие внутренних водных путей со строительством и использованием судов собственного производства. Или сооружение трансконтинентальных транспортных коридоров с развитием собственной базы железнодорожного и автодорожного машиностроения. Аналогичный подход может быть применен к формированию общего энергетического пространства, которое должно сопровождаться созданием общей машиностроительной базы. Скажем, доступ к источникам природных ресурсов может быть обусловлен разработкой, производством и использованием отечественных машин и оборудования. Доступ к трубопроводным системам – инвестициями в их модернизацию и повышение эффективности.
Россия потенциально могла бы переключить на себя значительную часть евроазиатских товарных потоков. При 50 %-ой российской доле в доходах транспортных систем, это составит 1,5–2,5 трлн. долл. – сумма, превышающая объем российского ВВП. Сегодня Россия обслуживает не более 5–7 % потенциального объема евразийского рынка транспортно-логистических услуг.
Утверждение России как ключевого транспортно-коммуникационного звена единой евразийской инфраструктуры позволило бы сблизить сырьевые и промышленные регионы России, способствовало бы развитию производственных комплексов и социально-экономической сферы на обширных восточных территориях. Получили бы импульс к развитию железнодорожная, металлургическая отрасли, горнорудная промышленность, речное судостроение и судоходство, технологии энергосбережения, космические средства навигации, газовая промышленность, лесопромышленность, телекоммуникационные и другие технологии.
Процесс расширения евразийской интеграции по обоим контурам ведется в соответствии с нормами ВТО и не преследует целей отгораживания от остальной части мирового рынка. Он основан на равноправном взаимовыгодном партнерстве и открыт для всех стран, желающих сотрудничать в целях расширения возможностей развития и повышения конкурентоспособности национальных экономик путем их взаимодополнения и сочетания сравнительных преимуществ.
В качестве альтернативы процессу евразийской интеграции США и их союзники пытаются реализовать уже упоминавшиеся выше проекты Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства США-ЕС и Транстихоокеанского партнерства, предусматривающие формирование двух гигантских зон преференциального торгово-экономического режима на выгодных для американских корпораций условиях. Таким образом США рассчитывают упрочить свое центральное положение в мировой торгово-экономической системе, ухудшив условия торговли для Китая, Индии, других государств ШОС и ЕАЭС, в отношении продукции которых на территориях этих торгово-экономических суперблоков будут действовать более высокие ставки пошлин и нетарифные барьеры, чем между государствами-членами.
В конкуренции евразийского и трансокеанского подходов к формированию сверхкрупных зон преференциального торгово-экономического режима большую перспективу имеет первый. Это следует из охарактеризованных во втором разделе закономерностей длинных циклов глобального экономического развития, согласно которым центр мировой экономики перемещается в Юго-Восточную Азию. Отсутствие в трансокеанском проекте наиболее крупных стран развивающегося мира, формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада – Китая и Индии – лишает его перспективы. В то же время этот интеграционный проект может ухудшить положение России, снижая возможности доступа российских товаров на самый крупный в Евразии рынок ЕС и затрудняя расширение евразийской интеграции на Дальнем Востоке и в АСЕАН. Из этого следует необходимость ускорения расширения второго контура процесса евразийской интеграции.
Для эффективной реализации потенциала евразийской интеграции России необходимо освоение методологии стратегического планирования, исходящей из национальных интересов и позволяющей на равных взаимодействовать с Китаем. В рамках этой методологии необходима разработка, принятие и реализация системы мер, сочетающей приоритетное и опережающее развитие восточных регионов России с развитием евразийской интеграции «по всем азимутам» с целью создания устойчивой и благоприятной сети международных экономических и политических отношений.
Россия может поймать «азиатский ветер» в «паруса» своего пространственного и технологического развития потому, что транспортные коридоры, проходящие по российской территории, будут способствовать увеличению объемов товарообмена между АТР и другими регионами континента. В настоящее время около 60 % мирового валового продукта создается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, общая стоимость мировых перевозок оценивается в 3–5 трлн. долл., значительная часть их производится морским путем за длительные сроки. При этом 80 % общей протяженности потенциально оптимальных по экономическим параметрам международных коридоров широтного направления от Восточной Азии до Атлантики составляют транспортные сети России.
Развитие транспортной инфраструктуры Евразии – важнейшая составляющая реализации заявленного Президентом России плана создания зоны гармоничного сотрудничества в Евразии «от Лиссабона до Владивостока». Она сочетается с планами ЕС по развитию высокотехнологичных транспортных коридоров с соседними странами на востоке. По прогнозам, объем межрегиональных наземных грузовых перевозок между Евросоюзом и странами-соседями увеличится к 2020 году в 2 раза по сравнению с объемами конца XX века. Евросоюз объективно заинтересован в согласовании четкого алгоритма долгосрочного сотрудничества с ЕАЭС и АТР. Прежде всего, это касается совместных инвестиций в транспортную инфраструктуру и коммуникации, позволяющие создать прочный экономический базис, неподверженный угрозам политической конъюнктуры.
Несмотря на очевидное полное соответствие процесса евразийской экономической интеграции общепринятым в мире стандартам создания региональных экономических объединений, включая нормы ВТО, США пытаются его дискредитировать, надеясь остановить развитие ЕАЭС[174 - 6 декабря 2012 г. Государственный секретарь США Х.Клинтон заявила в Дублине: «в США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции, создаваемый по принуждению Москвы».]. Преодолению настороженного отношения к евразийской интеграции должно способствовать повышение экономической привлекательности альянса для тяготеющих к ЕАЭС стран и эффективности органов управления интеграцией.
В силу своего исторического опыта, духовных традиций, геополитического значения Россия является естественным центром евразийской интеграции, которая действительно может охватить территорию от Лиссабона до мыса Дежнева по широте и от Новой Земли до Индонезии по долготе. Таков потенциал евразийского проекта, который может стать важнейшей составляющей формирования нового мирохозяйственного уклада.
Процесс евразийской интеграции может стать объединением стран и народов, заинтересованных в сохранении своих национальных традиций, духовных ценностей и культурных особенностей при стремлении к освоению передовых технологий ради экономического благополучия. Но реализовать этот проект можно только тогда, когда Россия будет являть образец справедливого, эффективного и гуманного государственного устройства. Это невозможно без кардинального изменения экономической политики России и формулирования ею привлекательной модели развития и расширения ЕАЭС. Иными словами, чтобы реализовать потенциал евразийской интеграции, России необходимо рационально распорядиться своим природно-ресурсным, географическим и управленческим потенциалом, вернуть исторические смыслы и провести технологическую модернизацию экономики, реализовав, наконец, стратегию опережающего развития на основе нового технологического уклада[175 - С.Глазьев. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. М., 2011.].
Раздел IV
О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития
Настоящий раздел представляет собой авторский доклад, обсуждение которого состоялось 30 октября 2015 года на Научном совете РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию. Во многом он опирается на приведенные выше результаты анализа закономерностей и тенденций глобального экономического развития, а также оценки состояния российской экономики и последствий проводимой макроэкономической политики. Поэтому в нем содержатся краткие повторы некоторых изложенных выше мыслей, фактов и выводов. Они оставлены, чтобы не нарушать логику этого доклада и системность подхода, а искушенный читатель может сразу перейти к мерам экономической политики, которые обосновываются во второй части данного раздела.
Как уже было показано выше, непосредственной причиной стагфляции, проявляющейся в дестабилизации курса рубля и повышении инфляции с одной стороны и падении инвестиций и экономической активности с другой стороны, является отток капитала, объем которого за два года «таргетирования» инфляции составил около 250 млрд. долл. В том числе не менее трети составляет нелегальный отток, совершаемый с уводом доходов от налогообложения с ущербом для госбюджета до нескольких триллионов рублей ежегодно.
Выше также было показано, что нарастающий отток капитала, накопленный вывоз которого оценивается более чем в триллион долларов за прошедшее десятилетие, связан с беспрецедентной для крупных стран офшоризацией и открытостью российской экономики, следствием чего стала чрезвычайная уязвимость ее финансовой системы от внешних факторов. Более половины денежной базы сформировано под внешние источники кредита. При этом подавляющая часть внешних займов получена из стран, находящихся под юрисдикцией государств-членов НАТО. Их вывод влечет двукратное сжатие денежной базы и финансового рынка. Ужесточение санкций может привести к блокированию российского капитала в офшорных зонах, через которые ежегодно проходит свыше трети негосударственных инвестиций.
ЦБ не предпринимает мер ни по прекращению оттока капитала, ни по замещению иссякающих внешних источников кредита внутренними. В результате происходит сжатие денежной базы, что влечет сокращение кредита, падение инвестиций и производства, провоцирует дефолты множества заемщиков, которые могут приобрести лавинообразный характер. При этом снижения инфляции не происходит как вследствие продолжающегося действия ее немонетарных факторов, так и повышения издержек из-за удорожания кредита, сокращения производства и падения курса рубля. Последнее из-за недоступности кредита не дает позитивного эффекта для расширения экспорта и импортозамещения и лишь разгоняет инфляцию. Экономика искусственно затягивается в воронку сокращающегося спроса и предложения, падающих доходов и инвестиций. Попытки удержать доходы бюджета за счет увеличения налогового пресса усугубляют бегство капитала и падение деловой активности. Сокращение реальных доходов населения отбросило российское общество по уровню бедности в 2003 год, нивелировав социальный эффект экономического роста последнего десятилетия.
Важно еще раз подчеркнуть, что втягивание экономики в стагфляционную ловушку происходит исключительно вследствие проводимой макроэкономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Падение производства и инвестиций происходит при наличии свободных производственных мощностей, загрузка которых в отраслях промышленности составляет 30–80 %, неполной занятости, превышении сбережений над инвестициями, избытке сырьевых ресурсов. Экономика работает не более чем на 2/3 своей потенциальной мощности, продолжая оставаться донором мировой финансовой системы.
Чтобы выйти из стагфляционной ловушки, нужно остановить скольжение по спирали «бегство капитала – сокращение денежного предложения – падение спроса и сжатие кредита – повышение издержек – рост инфляции, падение производства и инвестиций». В настоящем докладе обосновываются необходимые для этого меры государственной макроэкономической политики с учетом сложившейся на внутреннем рынке ситуации и внешних угроз. Им предшествует анализ причин обострения этих угроз и факторов поражения российской экономики.
Глава 1. Угрозы экономической безопасности России в условиях американской агрессии
Объективная и субъективная составляющие антироссийской агрессии
Агрессия США против России и захват ими контроля над Украиной является составной частью мировой гибридной войны, ведущейся Вашингтоном с целью удержания мирового лидерства в нарастающей конкуренции с Китаем. Россия избрана в качестве направления главного удара в силу сочетания объективных и субъективных обстоятельств.
В предыдущем разделе было показано, что объективно эскалация международной военно-политической напряженности обусловлена сменой технологических и мирохозяйственных укладов, в ходе которой происходит глубокая структурная перестройка экономики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов воспроизводства капитала. В такие периоды, как показывает многовековой опыт развития мировой торгово-экономической системы, происходит резкая дестабилизация системы международных отношений. Разрушение старого и формирование нового миропорядка сопровождается сменой лидеров мирового экономического развития, которая до сих пор опосредовалась мировыми войнами.
В настоящий период на волне роста нового технологического уклада вперед вырывается Китай, который вместе с Индией и другими странами Юго-Восточной Азии формирует центр нового мирохозяйственного уклада. Сталкиваясь с перенакоплением капитала в финансовых пирамидах и устаревших производствах, а также с утратой рынков сбыта своей продукции и падением доли доллара в международных транзакциях, США стремятся удержать лидерство путем развязывания мировой войны с целью ослабления как конкурентов, так и партнеров. Им нужен контроль над Россией, Средней Азией и Ближним Востоком, чтобы обеспечить себе стратегическое преимущество в управлении поставками критически значимых сырьевых ресурсов и ограничить возможности Китая. Усиление давления на ЕС, Японию и Южную Корею ведется с целью втягивания их в выгодные США и закрытые для Китая преференциальные торговые режимы, а также для контроля над рынком высокотехнологической продукции с целью сохранения американского доминирования в создании новых знаний и разработке передовых технологий.
Результаты экономико-математического моделирования циклов разной периодичности свидетельствуют о наложении их нисходящих фаз и кризисных точек в период 2014–2020 годов. Одновременная смена технологических и мирохозяйственных укладов в сочетании с поворотными точками инвестиционного цикла Кузнеца и делового цикла (Рис. 22) создает опасный эффект резонанса, чреватый коллапсом мировой финансово-экономической системы.
Рис. 22. Глобальный кризис как сочетание циклических процессов
(Источник: О новой методологии долгосрочного циклического прогнозирования динамики развития мировой экономики / В.Садовничий, А.Акаев. – Сайт «Социальный анализ и моделирование», 2009)
Последняя вошла в турбулентный режим с ярко выраженным 7-летним циклом повторения финансовых кризисов (Рис. 23).
Выход из этой турбулентности на траекторию устойчивого роста будет сопровождаться катастрофическими последствиями для стран, не создавших своевременно технологические, экономические и политические предпосылки нового подъема. Американское руководство сделало ставку на стратегию сбрасывания накопленных проблем на другие страны путем развязывания мировой гибридной войны. Ее главной целью в соответствии со старой западноевропейской геополитической традицией вновь определено уничтожение России. И, как всегда, англосаксы делают это чужими руками, взращивая русофобский неонацистский режим на Украине и разгоняя волну исламского экстремизма на Ближнем и Среднем Востоке. Тем самым они стремятся втянуть Россию в мировую войну на два фронта: против НАТО на Западе и Исламского государства на Юге. Одновременно они пытаются создать напряженность на Дальнем Востоке путем провоцирования корейского и японо-китайского конфликтов.
Субъективно антироссийская агрессия объясняется раздражением американского руководства самостоятельным внешнеполитическим курсом Президента России на широкую евразийскую интеграцию – от создания ЕАЭС и ШОС до инициатив по формированию ЕЭП от Лиссабона до Владивостока. США опасаются формирования независимых от них глобальных контуров расширенного воспроизводства, прежде всего, странами БРИКС.
Рис. 23. Цикличность провалов (динамика индексов S&P500, %)
(Источник: М.Ершов по данным Bloomberg. – Эксперт. – № 36, 2015)
Исторический опыт России в организации глобальных интеграционных проектов предопределяет антироссийский вектор американской агрессивности, геополитика которой традиционно носит русофобский характер. При этом происходит демонизация Президента России, которого Вашингтон считает главным виновником в утрате контроля над Россией и Средней Азией, а проводимую им самостоятельную внешнюю политику рассматривает в качестве ключевой угрозы своему глобальному доминированию.
Даже если удастся остановить американскую агрессию на Украине и купировать украинский кризис, не вызывает сомнений неизбежность длительного и существенного ухудшения торгово-экономических отношений между Россией и государствами-членами НАТО, а также другими зависимыми от США странами. С учетом высокой внешней зависимости российской экономики и отсутствия решающего влияния на международные средства взаимодействия (финансовые, информационные, дипломатические), это создает серьезные угрозы национальной безопасности. Наиболее острые из них касаются рисков замораживания валютных активов, отключения российских банков от международных платежных и информационных систем, запретов на поставки высокотехнологической продукции, ухудшения условий российского экспорта.
Дестабилизация валютно-финансовой системы – главное направление американской агрессии
В ведущейся США против России гибридной войне ключевое место занимает финансово-экономический фронт, на котором противник – США и их союзники – имеет подавляющее преимущество. Они используют свое доминирование в мировой валютно-финансовой системе для манипулирования финансовым рынком России и дестабилизации ее макроэкономического положения, подрыва механизмов воспроизводства и развития экономики. Делается это путем сочетания финансового эмбарго и спекулятивных атак против российской валютно-финансовой системы.
С одной стороны, американские власти блокируют средне- и долгосрочные кредиты и инвестиции западного капитала для российской экономики. С другой стороны, они не ограничивают краткосрочные операции, создавая возможности для финансирования спекуляций любого объема на российском рынке. В результате одновременного оттока долгосрочного капитала и притока краткосрочной спекулятивной ликвидности валютно-финансовая система теряет устойчивость и опрокидывается в турбулентный режим.
В предыдущих разделах было показано, как вследствие сверхприбыльности спекулятивных операций по манипулированию валютно-финансовым рынком, в которые втягиваются крупные отечественные кредитно-финансовые организации и денежные власти, возникает спекулятивная воронка, всасывающая имеющуюся в экономике ликвидность. Параллельно расширению кредитной эмиссии на рефинансирование коммерческих банков растет величина их валютных активов. Это означает, что большую часть получаемых от ЦБ кредитов они направляют на валютно-финансовые спекуляции. Это не дает возможности заместить внешние источники кредита внутренними, которые втягиваются в спекулятивную воронку и вымывают валютные резервы. Стремясь их сохранить, ЦБ уходит с валютного рынка, оставляя его целиком в руках у спекулянтов. Последние используют свои связи с Московской биржей (МБ) для манипулирования рынком, разгоняя колебания курса рубля до трехзначных процентов прибыли на заранее спланированных спекулятивных операциях.
Неуправляемая «болтанка» курса рубля дезорганизует замкнутые на внешний рынок воспроизводственные контуры российской экономики, влечет всплески инфляции и падение производства. Утрата ценностных ориентиров и лихорадочное состояние финансового рынка делают невозможным расширенное воспроизводство реального сектора экономики. Предприятия свертывают производственные инвестиции и направляют высвобождающиеся средства на финансовый рынок.
Попытки Банка России остановить спекуляции против рубля повышением ключевой ставки и сжатием денежной массы в ситуации турбулентности финансового рынка окончательно замыкают денежные потоки в спекулятивной воронке. Повышение процентных ставок по кредитам до уровня, многократно превышающего рентабельность производственной сферы, отрезает последнюю от банковских кредитов. Лишь пятая часть отраслей промышленности имеет рентабельность продаж выше текущего уровня средней ставки процента, подавляющая часть производственной сферы не может пользоваться кредитом для финансирования не только инвестиций, но и оборотного капитала. Сжатие кредита влечет сокращение инвестиций предприятий и расходов населения (Рис. 24), что сокращает конечный спрос и еще больше усиливает спад производства.