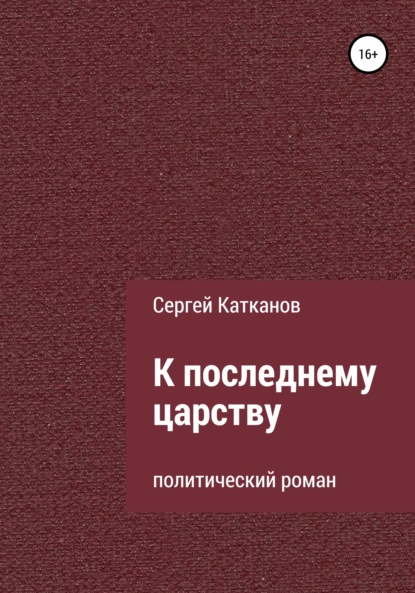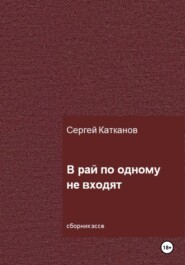По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
К последнему царству
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другое дело Мозгов, это был великий и вечный спорщик. Он таким и остался. Тон, конечно, поменял, не дурак же он был, чтобы разговаривать с диктатором, как с одноклассником, но он возражал почти на все предложения Ставрова, хотя бы в мелочах, да находил, с чем не согласиться. Ставров вполне осознавал, что это очень хорошо, что рядом с ним обязательно должен быть человек, который не боится ему возражать. А то все вокруг стали такими послушными. Он мог говорить хоть час подряд, его ни кто не смел перебивать, а в конце звучало одно и тоже: «Будет исполнено, господин диктатор». Кивающие китайские болванчики. Что они на самом деле думают, установить было невозможно. Да и думают ли они вообще? «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит». А Мозгов спорит. И это было замечательно. И это всё больше раздражало Ставрова.
Он вдруг осознал, что теперь переносит возражения с большим трудом. Кажется, это было совсем не про него. Он всегда был открыт для полемики, он постоянно спорил с начальством и подчиненным позволял с собой спорить. Он любил не просто приказывать, но и доказывать целесообразность своих приказов. Но так было лишь до тех пор, пока всё население огромной страны не превратилось в его подчиненных. А теперь он уже не выносил возражений, хотя и сам не сразу в это поверил. Значит, власть уже испортила его? Так быстро?
Но ведь ни кто же из них не понимал, какую ношу он тащит на своих плечах. Ему ежедневно приходилось принимать сотни решений, и ни один вопрос не вызывал у него растерянности, он всегда знал, что надо делать, потому что чувствовал положение страны одновременно всё целиком во всех деталях, а ни кому из них это не было дано. И вдруг Мозгов начинал выносить ему мозги своими возражениями. И он должен был тратить время на то, что бы их парировать. Это начинало бесить. Конечно, он ни когда не обрывал Мозгова, ни когда не затыкал ему рот, но он и сам не сразу заметил, что в спорах начал переходить на угрожающий тон. Мозгов заметил это раньше него, и всё чаще стал заканчивать споры словами: «Как скажете, господин диктатор». В этих его словах не было ни обиды, ни иронии, просто понимание ненужности спора. Мозгова было не в чем упрекнуть. А в чем можно было упрекнуть его?
Он как-то хотел пригласить своих друзей на рыбалку, чтобы просто побыть вместе, поболтать без чинов, по-дружески. Но он не стал этого делать, почувствовав, что из этого ни чего не получиться. Не могут они теперь общаться по-дружески. А ведь на то и диктатор, чтобы не тратить время на то, из чего всё равно ни чего не получится.
Ему удалось избежать большой крови, минимизировать жертвы, неизбежные при столь глобальных переменах. Он и сам не ожидал, что всё пройдет так легко, так что теперь имел полное право себя поздравить. Но первая жертва диктатора – это сам диктатор, и этой жертвы избежать невозможно. Ставров понял, что диктатура покалечила его душу. И принял это открытие на удивление легко.
Да и в диктатуре ли только дело? Не любая ли власть калечит? Конечно, любая демократическая власть, возносящая наверх жалких пигмеев, уродует их окончательно. Только прирожденный правитель может избежать губительного влияния власти на душу. Аристократы рождаются со всеми необходимыми прививками. А он не был аристократом. И пигмеем тоже не был. Он был прирожденным диктатором. А диктатура – это ведь не очень хорошо. Это исключительная, крайняя мера, иногда неизбежная, но не слишком благостная.
На чем строится его диктатура? Исключительно на страхе. Только страху он обязан успехам своего правления. Хорошо ли это? Это неизбежно и обязательно. Любая власть должна использовать страх в качестве инструмента политики. Сам смысл уголовного кодекса в запугивании. И армия нужна для того, чтобы вызывать страх у соседних стран. Диктатура отличается лишь резким увеличением уровня страха, который должна вызывать любая власть. Но дело ещё и в том, к чему именно вынуждает власть при помощи страха? К тому, чтобы совершить самоубийство, или к тому, чтобы самоубийства не совершать? Для человека естественно стремиться к жизни, стремиться к смерти для него противоестественно. Если при помощи страха человека пытаются вытолкнуть на естественный для него путь – это правильная диктатура. При помощи страха он всего лишь пытается вытолкнуть русских на русский путь, естественный и органичный для них. Русский человек, приведенный в полную растерянность катаклизмами ХХ века, порою и не знает, и не догадывается, что такое русские ценности, что значит быть русским сегодня, и думать, и говорить на эту тему он не хочет. Диктатура насильно, при помощи страха вынуждает его жить по-русски. Но всё, что делает диктатура, вполне соответствует структуре русской души. И если потом страх убрать, лишь некоторая часть бывших русских рванёт обратно, в привычное болото западных ценностей, а большинству русских понравится быть русскими, и они продолжат движение по этому пути уже добровольно. Если палкой приучить к хорошему, то большинство людей поймёт, что это хорошее, и будет следовать ему и без палки. Вот в чем он видел смысл своей диктатуры.
Диктатура большевиков была прямо обратного свойства. При помощи страха они вынуждали русских людей отречься от собственной души, оплевать и разрушить всё, что от века дорого русскому человеку. Это было очень трудно сделать, и то ведь получилось у подлецов, только страха потребовалось очень много. Ставрову теперь гораздо легче. Уговорить человека не совершать самоубийства неизмеримо проще, чем уговорить его совершить самоубийство. Ведь жить на самом деле хотят даже те, кто склонен к самоубийству. И в каждом человеке заложено глубинное чувство того, что естественно, а что противоестественно. А тех, чья человеческая природа уже окончательно извращена, не спасает ни какой страх, ни какая диктатура, они обязательно вернутся на свою блевотину. Но Ставров ведь и не идиот, чтобы пытаться отменить своими действиями последствия первородного греха.
Впрочем, он прекрасно видел, что радикальное превышение нормальной дозы страха, который должна внушать власть, уже сейчас приводит к не самым лучшим последствиям. Общественная атмосфера в стране стала очень тяжелой. «Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибёт». И ни какой страх не заставит дурака поумнеть. На местах самые лучшие инициативы проводили в жизнь самыми худшими методами.
Он время от времени смотрел любительские записи митингов, которые проводились по всей стране в поддержку мероприятий диктатуры. Он ни когда не требовал проведения таких митингов, впрочем, и запрещать их у него не было оснований. Если местные элиты хотят прогнуться под диктатора, так пусть прогибаются. Но тональность этих митингов была ужасающей. Ораторы буквально бились в истерике, брызгали слюной, бешено вращали глазами и сыпали проклятиями. Неужели это он, Ставров, вызвал к жизни этот тупорылый фанатизм? А кто же ещё? Больше было некому. Но ведь сам он ни когда таким не был. Но его так поняли. Выражать свою преданность диктатору считали за благо, а при помощи истерики пытались доказать свою искренность. Ещё хуже было, когда доморощенные ораторы пытались подражать речевой манере Ставрова. Страх внушает сила, а попытка внушить страх при отсутствии силы всегда выглядит комично.
Меньше всего раздражали митинги, где выступающие держались в рамках традиций советских дикторов, то есть говорили скучно, нудно, невыразительно, совершенно без души. Это были митинги, проведенные для галочки по требованиям губернаторов. Ораторы ни чего не пытались из себя изобразить кроме одного: «Я не виноват, меня заставили». Воистину, казенная скука не самое худшее из того, что порождает власть.
Лишь изредка Ставров видел на митингах умные, живые, искренние лица ораторов, в выступлениях которых не было ни фанатизма, ни казенщины, ни скуки. Эти люди действительно были очень увлечены происходящими переменами и поддерживали их от души и творчески. На таких людей он всегда просил установочные данные.
Митинги были ещё половиной беды, а вот школьные учителя – это было что-то с чем-то. Иногда ему присылали записи их гневных выпадов против учеников. Ставров ни как не мог понять, откуда в этих женщинах столько тупого и злобного высокомерия? Как они теперь ненавидели демократию! Примерно, как троцкистов при Сталине и агентов ЦРУ позднее. Стоило какому-нибудь ясноглазому мальчишке хоть пару слов сказать в защиту демократии, как эти училки набрасывались на него коршунами, оскорбляли и позорили и чуть ли не перед классом выставляли, как образец вырожденца. При этом они ни чего не могли доказать детям, да и не пытались, а если пытались, то говорили такие благоглупости, что Ставрову хотелось сквозь землю провалиться. А как они теперь любили Русскую Церковь! Кажется, КПСС в своё время любили не настолько взахлеб. Как истерично они позорили безбожников, как тупо над ними издевались.
Когда-то Ставров читал советские газеты 1937 года и был потрясен тем уровнем ненависти и агрессии, которые брызгали с их страниц. Проклятия, оскорбления, призывы уничтожить… И вот теперь он был куда более потрясен, когда видел, что его государственные СМИ становятся похожи на те газеты. Ненависть, проклятия и оскорбления постепенно становились новым стилем СМИ.
А как высокомерны стали многие православные, изображавшие теперь из себя «расу господ». Уже объявили, что на соборе будут избирать царя только граждане православного вероисповедания, и теперь они чувствовали себя, как представители правящей партии. Ставров не раз говорил об этом с патриархом, и тот его понял, согласившись, что это серьёзная проблема. Теперь священники чуть ли не в каждой проповеди развивали тему о том, что желающий быть первым, должен стать для всех слугой. И власть в России теперь принадлежит не людям Церкви, а Богу, и православные – лишь инструмент в Его руках, и похоже, что довольно плохой инструмент, так что у них нет ни каких оснований считать себя гражданами первого сорта и превозноситься над представителями других исповеданий. Это подействовало, православные во всяком случае стали вести себя скромнее, хотя души, конечно, так быстро не меняются, а ведь именно ради души они всё и затеяли.
С патриархом, кстати, Ставров давно уже нашёл общий язык и взаимно приемлемый тон общения. Патриарх довольно легко принял то, что говорит не просто с первым должностным лицом государства, но и с первым сыном Русской Церкви. Святейший оказался человеком глубоко религиозным и довольно мудрым. Он тонко чувствовал православие и хорошо понимал смысл происходящих перемен. При этом он был политиком до мозга костей, и разговаривал с ним Ставров именно, как с церковным политиком, то есть ни на секунду не расслабляясь. «А кем он должен быть? – говорил себе Ставров. – Преподобным старцем? На такой должности это невозможно».
Интеллигенция ходила пришибленная, это Ставров чувствовал по множеству примет. Для классических русских интеллигентов наступили черные дни. Они чувствовали себя лишенными «свободы», лишенными даже возможности «бороться за свободу». Продажные твари из интеллигенции как раз очень быстро переметнулись на сторону диктатуры, а самым лучшим интеллигентам, всегда искренне стремившимся к благу России, в новой России было нечем дышать.
Ставров не то чтобы жалел этих людей, он прекрасно понимал, с каким остервенением они рвали бы его на части, если бы он им это позволил, как радостно блокировали бы все здоровые начинания, с каким увлечением, с какой убежденностью в своей правоте они закапывали бы Россию, лишая её будущего. Нет, ему не было жалко этих людей, но ему было чрезвычайно досадно, что из интеллигенции к нему примкнули в основном отбросы, а из честных интеллигентов за ним пошли очень немногие. Но он понимал, что иначе и быть не могло. Недавно православные едва дышали интеллигентским воздухом, пропитанным миазмами извращений. Теперь интеллигенты задыхаются в православной атмосфере, по их мнению, пропитанной «средневековым мракобесием». Не бывает такого воздуха, которым легко дышалось бы и тем, и другим. Не бывает православной интеллигенции, бывают православные интеллектуалы, но они не интеллигенты.
Но как же всё-таки получилось, что атмосфера той России, которую создал Ставров, оказалась пронизана истеричностью, нетерпимостью, тупой злобой? Этого, очевидно, можно было избежать. Ставров этого не хотел, он это не заказывал. Но это безусловно было вызвано его действиями. Он долго над этим думал и понял, наконец, в чём дело.
Православие тоньше волоса и глубже космоса. Лёгкая неточность в изложении православных идей приводит к таким искажениям, что православие превращается в свою противоположность, и «средневековое мракобесие» перестает быть интеллигентским штампом. Они заставили всю Россию дышать православием, и Россия это как бы приняла, но общественное сознание неизбежно упрощает тонкие истины, на выходе выдавая тупые слоганы. Но ведь это же неизбежно, многомиллионные людские массы не могут мыслить и чувствовать тонко. Они всё будут упрощать, то есть искажать, этого ни кто не сможет изменить. Власть, конечно, будет вести разъяснительную работу, и это даст определенный результат, но принципиально ситуации не изменит. Так в чем же была его ошибка? Может, ошибки-то и не было?
Какая сила заставит человеческие лица подобреть? Что сделает улыбки людей ясными и радостными? Что уберёт с лиц злые ухмылки? Тонкое чувство православия – удел единиц, его массам не подаришь, но ведь духовное состояние масс их главная забота. Как подарить людям радость? Как стереть с их лиц угрюмство недобрых «праведников»? Уже понятно, что через мозг до людей не достучаться. Тогда как?
И вдруг в сознании Ставрова высветился очень простой вопрос: любят ли его русские люди? В истеричных поклонниках у него недостатка не было. Кто поумнее говорил: «Ставров прав». Но любят ли его? Его не могут любить, потому что его боятся. Его и должны бояться, потому что диктатура по определению строится на страхе, а без диктатуры Россию было уже не спасти. Но было бы преступлением сохранить диктатуру навсегда. Это означало бы страх навсегда. Это означало бы злорадство вместо радости, фанатизм вместо веры, гордость вместо любви. Диктатора невозможно любить. Любить должны царя. Значит, он всё правильно делал. Просто он не достаточно глубоко понимал, что сам в этой схеме является расходным материалом. Свечёй, которая должна сгореть, исчезнуть, иначе не выполнит своего предназначения. Диктатура не решит духовных проблем. Их решит монархия.
Да, он был прирожденным диктатором, то есть человеком, созданным совсем не для того, чтобы его любили. А сам он любил кого-нибудь? Были в жизни эпизоды, но это всё в прошлом. А сейчас он любит хоть одного человека на всем белом свете? Ставров вдруг невыносимо, нестерпимо захотел увидеть брата.
***
Володя был значительно старше его, он чуть ли не в отцы ему годился. И был для него почти отцом. Родного отца он почти не помнил, тот рано ушёл, и Володя стал для него всем. В детстве им трудно было вместе играть из-за разницы в возрасте, но Володя всё-таки с ним играл. Володя мечтал стать офицером, и это восхищало его маленького братишку. Поступив в военное училище, старший брат писал младшему письма, каждое из которых было для Саши драгоценным. Он помнил, как впервые увидел брата в лейтенантских погонах, и ему показалось, что перед ним существо из другого мира. Как он любил его тогда! Но с тех пор они виделись всего несколько раз.
Володю мотало по гарнизонам, потом Саша сам поступил в военное училище, они пытались переписываться, но этому всегда что-то мешало, и переписка постепенно заглохла. Он знал, что Володя служил в Афганистане, знал, что вернулся живым, но после этого исчез совершенно бесследно. Саша пытался искать брата, но никаких его следов обнаружить не мог. Он уже был офицером спецслужбы, у него были кое-какие оперативные возможности и понимание того, что люди бесследно не исчезают. К тому же Володя был строевым офицером, к спецслужбам ни когда отношения не имел и столь квалифицированно «лечь на дно» просто не мог. Но ведь исчез же он как-то. Потом сам Саша по долгу службы стал исчезать всерьёз и надолго, так что если бы Володя в этот период искал брата, не смог бы найти. Потом он забыл о брате. Просто забыл и всё. У него больше не было детства.
И вот сейчас он всё вспомнил: и детство, и Володю. Теперь в распоряжении Саши были оперативные возможности всех спецслужб страны, а это такое мелкое сито, сквозь которое и комар не просочился бы. И всё-таки Володю долго не могли найти, как будто его прятали лучшие профессионалы мира. Его отыскали, наконец, в крохотном убогом сибирском монастыре в качестве рядового монаха.
Постучавшись в ворота монастыря, Саша был одет, как геолог, и лицо имел вполне геологическое, уж что-что, а изображать из себя кого угодно он умел. Надо было обладать великой прозорливостью, чтобы узнать в этом геологе диктатора России. Отец настоятель внимательно посмотрел ему в глаза и, не задавая лишних вопросов, сказал: «Проходите».
– Молитвами святых отец наших… – сказал Саша у дверей кельи.
– Аминь, – ответил голос Володи.
Саша шагнул в келью. Перед ним на кровати сидел седобородый монах в потертом подряснике и плёл чётки. Увидев Сашу, он с деланным испугом спросил:
– Ты кто?
– Начальник партии.
– Чукча не дурак, чукча знает, кто у нас начальник партии.
Они рассмеялись и обнялись. Сели рядом на кровать.
– Чего изволите, господин диктатор?
– Брось, Володя.
– Хотел бы бросить, да поднять потом не смогу.
– Брось. Куда ты исчез после Афгана?
– Отвечать, видимо, придется как на духу, а то набегут твои опричники и вколют мне сыворотку правды, – Саша оставил эту шутку без последствий, и Володя продолжил. – После Афгана я познакомился с интересными людьми. Мы создали… военно-монашеское братство. Нечто подобное ордену тамплиеров. Я даже стал у них чем-то вроде магистра. Потом познакомились с реальными тамплиерами из-за границы. У них и русские были…
– Вы воевали?
– Мы ни когда не воевали на стороне какого-либо государства, включая Россию. Мы воевали не с врагами Отечества, а только с носителями абсолютного зла, сатанистами, включая все их модификации. Ну а потом я отвоевал своё и ушёл в монастырь. Настало время хорошо помолиться перед смертью.
– Понимаю, что ты не хотел светиться с таким международными связями, но фамилию зачем сменил?
– Это только когда мой брат стал всемогущим диктатором. Ну как, скажи мне, теперь в русском монастыре может жить монах по фамилии Ставров? Тот монастырь мне пришлось покинуть и перебраться сюда, в глушь, уже под новой фамилией.
– Здесь знают, кто ты?
– Только настоятель.
– То-то он меня глазами сверлил. Узнал ведь.
– Узнал, конечно, господин начальник партии. Но ведь в ноги тебе не рухнул. Здесь другой мир, Саша. Если бы сейчас все наши иноки узнали, что в монастыре находится диктатор России, ты бы этого даже не заметил, твой приезд не имеет для них ни какого значения.
– А для тебя?
– Мы разошлись, Саша, нам говорить не о чем. Твои проблемы непонятны и неинтересны для меня, так же и для тебя мои проблемы.