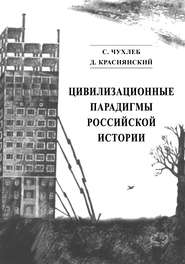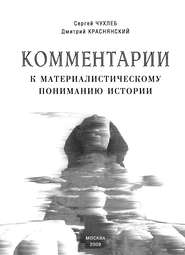По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лекции по истории западной философии Нового времени
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Название этой теории столь замысловато по той же причине, по какой вещи XVI века отягощены множеством украшений. Стандартизированное машинное производство массовой продукции приучило современного человека к простоте и функциональности окружающих его вещей. Эти простота и функциональность отражается и в его языке. Во времена же Бэкона «декоративный элемент» языка являлся необходимым компонентом хорошей философии. Кроме того, надо признать, что термин «идол» (или «призрак») хорошо передает суть этой теории. Идол или призрак – это нечто, что внушает нам опасения, если не страх, и тем влияет на наше поведение. То же и предрассудки ума – они властно влекут нас от истины на путь заблуждения.
В теории идолов Френсиса Бэкона наглядно проявляется одна из наиболее характерных черт философии Нового времени – понимание необходимости исследования природы и установок познающего субъекта. В отличие от античных и средневековых мыслителей, которые усматривали трудности познания скорее в сложности познаваемых объектов, нововременные философы убеждены, что главные ошибки в познании мира проистекают из неверных и специфических установок самого субъекта. Человеческий ум, предоставленный сам себе, не очень пригоден к познанию истины. Многое в его природе не способствует и даже мешает этому. Именно поэтому интеллект должен быть очищен от ложных идей и установок, отлажен и настроен так же, как отлажен сложный и изощренный инструмент.
Этот подход можно проиллюстрировать следующим примером. Если мы собираемся исследовать нечто при помощи микроскопа, то разумно сначала озаботиться чистотой стекол этого микроскопа. В противном случае мы будем видеть в микроскоп не объекты микромира, а пятна грязи на увеличительном стекле. Так же рассуждал и Бэкон: прежде чем познавать элементы мироздания, разумно исследовать нашу способность к этому познанию и устранить все, что может воспрепятствовать нам в этом деле.
Бэкон выделяет четыре класса идолов. «Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум и глубоко в нем укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине, но, если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова преградят путь при самом обновлении наук и будут ему препятствовать, если только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько возможно. Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовем первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и четвертый – идолами театра. Построение понятий и аксиом через истинную индукцию есть, несомненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолы. Но и указание идолов весьма полезно…» (1. 2. С. 18).
1. Идолы рода. Речь идет об ограниченности человеческой природы. Человеческий ум склонен принимать желаемое за действительное, он не любит признавать неприятное, он склонен к ошибкам и искажениям. В качестве примера достаточно вспомнить о том, как часто человек воспринимает конструктивную критику как злобное нападение на собственную персону. «Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей… Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде». (1. 2. С. 18).
В наибольшей степени заблуждения человеческого ума проистекают от чувственного восприятия. Это восприятие часто обманывает нас и представляет вещи не такими, какие они есть на самом деле. Кроме того, часто яркие чувственные восприятия отвлекают человеческий ум от менее ярких чувственных восприятий, которые как раз и могли бы поведать нам истину.
Забавно, что человек, который столь глубоко понимал искажающий характер «идолов рода», сам часто становился их жертвой. Так, в частности, Бэкон не принял теорию Коперника и полагал, что Земля покоится в центре мироздания. Подобные воззрения естественны для человека, находящегося в плену у своего чувственного восприятия. Выйдя по утру на крыльцо своего дома и оставаясь на нем в течение всего дня, человек с очевидностью может убедиться, что он весь день пребывал в неподвижном состоянии, в то время как солнце непрестанно двигалось пока не скрылось за горизонтом. Впрочем, возможно, Френсис Бэкон просто не хотел вступать в конфликт с церковью из-за какой-то там теории Коперника.
2. Идолы пещеры. «Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире». (1. 2. С. 19).
Иными словами, личная биографическая ситуация человека определяет его характер, привычки, склонности, страхи и надежды, способы восприятия мира и реакции на этот мир. Все это выступает для человека, в качестве некой экзистенциальной «пещеры», в которую он заключен. Получаемое человеком знание как бы преломляется через стены и содержимое этой «пещеры», искажаясь до состояния фантома.
Я очень люблю этот раздел. Для дела познания этот призрак наиболее опасен. Этот «вирус» повсеместен и всемогущ. Правда, в отличие от Бэкона, который делал акцент, прежде всего, на личностном аспекте «пещеры», в которую заключен каждый человек, я считаю необходимым расширить значение этого «идола» и включить в него культурный горизонт, очерчивающий опыт индивида. Речь идет о склонности человека судить обо всем на свете по меркам своей экзистенциальной и культурной «пещеры». Чаще всего свой образ жизни, свою семью, свою культуру человек рассматривает как образец истинного и правильного. Эта пещера воспринимается им как Вселенная. Образ же жизни других людей или иные культуры воспринимаются им как задворки, если не как помойные углы его пещеры. Если вы прислушаетесь к тому, как люди характеризуют других, то заметите, что часто человек склонен восклицать: «Он ненормальный!», – или – «Я же нормальный человек!». Норма здесь как раз и отражает обычай пещеры. Все же, что отличается от обычаев этой пещеры, воспринимается как ненормальность, злонамеренное извращение или даже как дьявольские происки. Внимательно понаблюдав за окружающими, вы обнаружите, что от идолов пещеры не свободны ни ваши близкие, ни ваши дальние. Вам достаточно включить телевизор, и вы увидите, как политик озвучивает призраки своей пещеры в полной уверенности в том, что он выступает глашатаем Истины.
3. Идолы рынка (площади). «Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям». (1. 2. С. 19).
«Наиболее же тягостны идолы площади, проникающие в человеческий разум в результате молчаливого договора между людьми об установлении значения слов и имен. Ведь слова в большинстве случаев формируются исходя из уровня понимания простого народа и устанавливают такие различия между вещами, которые простой народ в состоянии понять; когда же ум более острый и более внимательный в наблюдении над миром хочет провести более тщательное деление вещей, слова поднимают шум, а то, что является лекарством от этой болезни (т. е. определения), в большинстве случаев не может помочь этому недугу, так как и сами определения состоят из слов, и слова рождают слова. И хотя мы считаем себя повелителями наших слов и легко сказать, что «нужно говорить, как простой народ, думать же, как думают мудрецы»; и хотя научная терминология, понятная только посвященным людям, может показаться удовлетворяющей этой цели; и хотя определения (о которых мы уже говорили), предпосылаемые изложению той или иной науки (по разумному примеру математиков), способны исправлять неверно понятое значение слов, однако все это оказывается недостаточным для того, чтобы помешать обманчивому и чуть ли не колдовскому характеру слова, способного всячески сбивать мысль с правильного пути, совершая некое насилие над интеллектом, и, подобно татарским лучникам, обратно направлять против интеллекта стрелы, пущенные им же самим. Поэтому упомянутая болезнь нуждается в каком-то более серьезном и еще не применявшемся лекарстве» (1. 1. С. 309–310).
«Но тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же более острый разум и более прилежное наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой. Отсюда и получается, что громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них и начать для того, чтобы посредством определений привести их в порядок. Однако и такие определения вещей, природных и материальных, не могут исцелить этот недуг, ибо и сами определения состоят из слов, а слова рождают слова, так что было бы необходимо дойти до частных примеров, их рядов и порядка, как я скоро и скажу, когда перейду к способу и пути установления понятий и аксиом» (1. Т. 2. С. 25).
4. Идолы театра. «Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры…». (1. 2. С. 19).
«Идолы театра или теорий многочисленны, и их может быть еще больше, и когда-нибудь их, возможно, и будет больше. Если бы в течение многих веков умы людей не были заняты религией и теологией и если бы гражданские власти, особенно монархические, не противостояли такого рода новшествам, пусть даже умозрительным, и, обращаясь к этим новшествам, люди не навлекали на себя опасность и не несли ущерба в своем благосостоянии, не только не получая наград, но еще и подвергаясь презрению и недоброжелательству, то, без сомнения, были бы введены еще многие философские и теоретические школы, подобные тем, которые некогда в большом разнообразии процветали у греков. Подобно тому как могут быть измышлены многие предположения относительно явлений небесного эфира, точно так же и в еще большей степени могут быть образованы и построены разнообразные догматы относительно феноменов философии. Вымыслам этого театра свойственно то же, что бывает и в театрах поэтов, где рассказы, придуманные для сцены, более слажены и красивы и скорее способны удовлетворить желания каждого, нежели правдивые рассказы из истории». (1.2. С. 27).
Этот род предрассудков особенно раздражает Бэкона. Выделяя этот класс, он фактически производит нападение на всю древнюю и средневековую философию. Идолы театра – это предрассудки, связанные с верой в авторитет древних. Если вы вдумаетесь, то обнаружите, что термин «идолы театра» весьма тонко передает одну из сторон феномена авторитета. Очень часто авторитет прибегает к внешним атрибутам, как то: ученая или судейская мантия, величественная поза, непонятный язык, пухлые ученые тома. Все это – театральное представление, которое призвано убедить окружающих в уме, глубине, компетентности авторитета.
Авторитет древних раздражает не одного только Бэкона. Новой науке при своем рождении приходилось яростно отстаивать право на свое существование в борьбе с наукой средневековой. А авторитет Аристотеля или Библии – это краеугольный камень средневековой науки. Фактически, Бэкон заявляет, что есть лишь один источник подлинного знания – опыт и разум. Авторитет скорее убивает истину, нежели гарантирует ее.
Теория «идолов» Френсиса Бэкона положила начало масштабным изысканиям новоевропейских философов в области теории познания. По этому пути двигалось большинство последующих философов. В этом отношении, вполне можно провести прямую линию между теорией идолов Френсиса Бэкона и изысканиями Иманнуила Канта в области способностей и границ человеческого разума.
Комментарий № 1
Принцип технократии является разновидностью более общего принципа меритократии, то есть убеждения, что обществом должны править лучшие и наиболее способные. Подобные идеи с неизбежностью возникали и будут возникать в человеческом обществе, поскольку это общество всегда было и, скорее всего, всегда будет оставаться иерархизированным. По своей природе человек – стадное животное. Стадо же предполагает иерархию. Но человек – это и социальное существо. Соответственно, иерархия в различных обществах выстраивается по разным основаниям, сообразно типу того или иного социума. Основаниями могут быть военные или политические успехи, богатство, знание и мудрость или еще что-нибудь. Элиты всегда создаются из людей талантливых, энергичных и способных на многое. Но сформировавшись, они склонны к замыканию на самих себя и окостенению. Классическим примером этого может служить аристократия. Сформировавшись благодаря личным заслугам основателей аристократических родов, в дальнейшем аристократия ценит не столько заслуги, сколько происхождение.
В этом отношении, важнейшая проблема элиты – ее открытость и обновляемость. На данный момент модернизированные страны являют наиболее успешный вариант социальной структуры, предполагающий постоянное обновление и открытость элит. В капиталистическом обществе ценится богатство и любой обретший это богатство рано или поздно входит в элиту. Недостойный же наследник, расточивший свое богатство, со временем из элиты выпадает. Капитализм с необходимостью предполагает демократию. Благодаря демократической форме правления энергичные и талантливые могут подняться на высокие ступени социальной иерархии. Та же демократия способствует процветанию и вхождению в элиту людей, занимающихся интеллектуальной и духовной деятельностью – их артефакты могут получить широкое признание и значительное вознаграждение.
Создание подобного «буржуазного» механизма высокой вертикальной социальной мобильности (перемещение людей по социальной лестнице вверх и вниз) способствовала расцвету и мировому господству модернизированных стран. Этот механизм не идеален, но его «коэффициент полезного действия» очень высок и значительно превосходит «КПД» других типов социальной структуры, имевших место быть в истории или существующих на данный момент. Но этот тип механизма вертикальной социальной мобильности вызывает множество нареканий со стороны представителей различных гуманитарных ценностей. Критики часто указывают на высокую степень социальной несправедливости и неравенство, присущих этому механизму. Подавляющее большинство этих критиков являются представителями интеллигенции, которые претендуют на то, что они выражают и защищают интересы широких слоев населения, находящихся на нижних ступенях социальной иерархии. Делают они это тем более искренне, поскольку сами занимают не очень высокие социальные ступени и возмущены тем, что богатство, власть, авторитет и известность достаются не им, гениальным и добродетельным, а тупым и беспринципным негодяям.
Но предлагаемые ими проекты, как правило, предполагают «ручное управление» процессами социальной мобильности, ибо их реализация немыслима без неимоверного возрастания роли государства. Предполагается, что разрушив несправедливый и нравственно-неприемлемый господствующий механизм социальной мобильности, разумные и добродетельные люди создадут такое социальное устройство, которое позволит возвышать лишь талантливых и достойных. Но заниматься этим будут соответствующие государственные органы, то есть бюрократия. Последнее обстоятельство, как правило, не учитывается этими прожектерами.
Такова сущность бюрократии – она безлика, незаметна и всегда готова к услугам. Бюрократия воспринимается политическими утопистами, как послушный инструмент, пригодный для решения любых социальных проблем. Но социальный опыт XX века убедительно демонстрирует, что незаметная и услужливая бюрократия, обретя ключевые позиции в обществе, превращается в его хозяина, ибо бюрократия может и хочет быть не только послушным орудием в руках других социальных слоев и групп, но и господствующим классом.
Бюрократическое же правление означает торжество совершенно особенных критериев меритократии. Лучшими и достойными оказываются не талантливые и энергичные, а те, кто наиболее полно способен к подчинению, лояльности и механическому исполнению приказов и инструкций, полученных сверху. Кроме того, как и в случае с аристократией. Господство бюрократии очень скоро приводит к возникновению почти закрытых чиновничьих каст.
Таким образом, проблема повышения эффективности механизма вертикальной социальной мобильности не может быть решена через повышение роли государственных органов. Кроме того, решение этой проблемы, скорее всего, не может быть связано с максимальным учетом гуманитарных ценностей. На это с очевидностью указывает социальный опыт современных модернизированных стран.
Капитализм с неизбежностью порождает демократию. Вне равенства всех перед законом, вне соблюдения прав человека и вне возможности влиять на принятие политических решений капиталистическая экономика обречена на загнивание и исчезновение. Но демократия имеет тенденцию к созданию всеобщего избирательного права. Этого требуют широкие массы и этого требуют гуманитарные ценности, лежащие в основе демократической идеологии.
Всеобщее избирательное право создает ситуацию, когда важнейшие социально-политические и экономические решения принимаются сообразно воле низкоиерархичного большинства. Но это большинство не обладает высокими талантами, хорошим образованием и сильным умом. Большинство – это скопление посредственностей, которые не смогли за счет личных качеств обрести высокие социальные позиции и получить хорошую долю общественного богатства. Благодаря всеобщему избирательному праву это большинство теперь может принять такие решения, которые позволят ему получить то, что оно не смогло получить из-за своей «серости».
Таким образом, капиталистический механизм вертикальной социальной мобильности с необходимостью содержит в себе элемент, который в перспективе способен его полностью разрушить – благодаря всеобщему избирательному праву модернистская меритократия может смениться архаической охлократией[15 - Охлократия (др. – греч. ??????????; от ????? – толпа и ?????? – власть, лат. ochlocratia) – вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. (Википедия).].
К счастью, до сих пор этот пагубный элемент более или менее уравновешивается иными социальными элементами капиталистического механизма социальной мобильности. Так, в частности, элиты имеют возможность влиять на демократические решения посредством масс-медиа, финансирования нужных проектов и саботирования проектов опасных. Кроме того, межгосударственная конкуренция также поддерживает «в тонусе» общества, склонные к движению в сторону охлократии.
Но «столетие всеобщего избирательного права» в Европе и Северной Америке демонстрирует все большее смещение центра политической тяжести с меритократии на охлократию. Все чаще в модернизированных обществах к власти всерьез и надолго приходят социалисты и «розовые либералы», которые своими популистскими мерами разрушают эффективный механизм капиталистической социальной мобильности. Предпринимательство и упорный труд становятся все более проблематичными, поскольку оказывается, что можно неплохо жить, не работая при этом и одного дня в неделю – кормить бездельника будут те, кто упорно трудится и рискует всем, создавая коммерческие предприятия. Ценность образования катастрофически падает, ибо его могут без особого труда и особых затрат получить все. Ценность личных талантов и энергии девальвируется, поскольку государство искусственно разрушает свободную конкуренцию, вводя квоты на присутствие в важнейших социальных институтах так называемых «дискриминируемых» слоев и групп населения.
Кроме того, прекраснодушный гуманизм западной интеллигенции, который она внушает всему обществу, приводит к тому, что модернизированные страны претерпевают чудовищный наплыв выходцев из стран с архаической социальной структурой. Человек – это носитель общественных отношений и социального опыта. Если модернизированная страна принимает в себя миллионы и миллионы людей, которые являются носителями архаических форм социальной жизни, то, рано или поздно, эта страна начнет деградировать и архаизироваться.
В итоге, мы видим, что в последние десятилетия модернизированные страны пребывают в латентном социально-экономическом, политическом, этническом и культурном кризисе. Капиталистическая цивилизация справлялась со многими кризисами. Возможно, она справится и с этим кризисом. Но опасность все же велика!
Множество людей во всем мире с нетерпением и восторгом ждет краха капиталистической цивилизации («Крах проклятого Запада! Скорее бы!»). Что ж, дело личных и социальных предпочтений каждого. Но просвещенный человек на эту перспективу взирает с ужасом. Капиталистическая цивилизация породила невиданный взлет человеческого гения и невиданный расцвет культуры. Пятьсот лет из этого «ящика» с удивительной скоростью вылетают необыкновенные технические изобретения, воодушевляющие идеологии, прекрасные образцы зрелой науки и высокого искусства. Благодаря этой цивилизации, впервые за всю историю человечества широкие слои населения покинули жалкие, грязные, полные паразитов лачуги, избавились от угнетения и голода и вкусили богатую, свободную и более или менее интеллектуально осмысленную жизнь. Гибель капиталистической цивилизации будет означать начало Нового Средневековья.
Некоторые просвещенные умы (и я солидаризируюсь с ними) полагают, что спасение капиталистической цивилизации заключается в возвращении к цензовой демократии. Они указывают, что расцвет капиталистического Запада приходится на тот период, когда избирательное право ограничивалось имущественным цензом.
В свое время англичане говорили: «Государством правит тот, кто платит налоги».
В этом много смысла. Тот, кто содержит государство, имеет право определять его судьбу. Человек, который лишен имущества и который не может заработать своим трудом сумму, облагаемую государством достаточным налогом, вряд ли будет способен к принятию разумных и взвешенных решений. Скорее такой человек последует за тем, кто предложит ему обобрать более успешных членов общества, ибо редко люди в своих несчастьях и бедах винят самих себя и слишком часто обвиняют других.
Таким образом, современный проект цензовой демократии предполагает восстановление прежнего социального баланса, обеспечивающего эффективную работу капиталистического механизма социальной мобильности. Избирательным правом пользуются лишь те, кто своими талантами и энергией добился высоких доходов или высокого положения в научной среде. Иными словами, идея цензовой демократии – это еще один вариант решения извечной социальной проблемы формирования меритократии. Но, на данный момент, я не вижу, как подобный проект может быть реализован.
Глава 2. Философия Рене Декарта
Рене Декарт (1596–1650) – философ, который наряду с Френсисом Бэконом, заложил основы современной науки и культуры. Его философия является, в том числе, и любопытным проектом гармоничного сочетания религиозной веры и научного знания. Этот проект вызвал у церкви раздражение и отторжение, поскольку ограничивал ее претензии на монопольное обладание знанием о мире. Но ныне, позиция, оформленная Рене Декартом, фактически воспринята церковью и обществом. Я рассмотрю этот момент более подробно ниже, пока же обратимся к жизни философа.
§ 1. Жизнь Декарта
Рене Декарт родился во Франции в 1596 году. Он происходил из аристократической семьи и получил прекрасное образование в одном из лучших колледжей Франции. Дворянин того времени должен был выбрать либо военную, либо духовную карьеру. Рене Декарт пренебрег обеими. Больше всего он ценил досуг, который позволял ему свободно заниматься науками. Правда, он несколько лет путешествовал и, в частности, служил офицером в Германии во время Тридцатилетней войны. По возвращении он пытался вести уединенную жизнь, чтобы никто и ничто не препятствовало ученой деятельности. Декарту не всегда удавалось достичь этого состояния, ибо аристократ того времени был обязан вести светскую жизнь. И Декарт ее вел.
Кстати, то было время кардинала Ришелье и Людовика XIII, время, которое ассоциируется у многих с королевскими мушкетерами, описанными в романах А. Дюма. Если бы герои Дюма существовали на самом деле, то Рене Декарт вполне мог быть с ними знаком. Он мог беседовать с Атосом о философии, с Арамисом – о богословии и даже с Д’Артаньяном и Портосом – о войне, поскольку имел опыт офицерской службы.
Но светская жизнь была Рене Декарту все же в тягость. В тот момент, когда ему все надоедало, он просто исчезал из общества, находя себе убежище в каком-нибудь отдаленном, уединенном парижском доме. Уже в то время Париж был достаточно большим городом, и в нем вполне можно было затеряться. Декарт однажды проницательно заметил, что уединения нужно искать в больших городах. Но всякий раз друзья находили его убежище и чуть ли не силой возвращали к светской жизни.
По мере роста научной и философской славы Декарта его враги и противники умножались. Церковь и консервативные ученые воспринимали с неодобрением его идеи. Декарт никогда не был бойцом, стремящимся в борьбе доказывать свою правоту. Он полагал, что изменять скорее следует себя, нежели окружающий мир. И он ни в коей мере не желал конфронтации с церковью. Стремясь обрести уединение и покой, он переселяется в Голландию, которая славилась большей толерантностью, нежели Франция. Но к концу его жизни споры и нездоровые страсти вокруг его учения одолели его и там. В отчаянии философ даже начинает жалеть о том, что публиковал свои сочинения. Он пишет своему другу Шаню:
«Я выпустил свои сочинения в свет без всяких украшений, бросающихся в глаза; люди, гоняющиеся за блеском, не должны их даже заметить; я хочу только одного – чтобы некоторые хорошие головы обратили на них внимание и для моего назидания взяли на себя труд исследовать их… Я никогда не был столь честолюбив, чтобы желать сделаться известным таким высоким лицам, и если бы я был так умен, как, по мнению дикарей, умны обезьяны, то ни один человек в мире не знал бы, что я пишу книги. Дикари, как говорят, думают, что обезьяны могли бы разговаривать, если бы захотели, но они этого нарочно не делают, чтобы их не заставили работать. Я был не так умен, чтобы бросить писательство, потому я и не имею столько досуга и покоя, сколько имел бы, если бы соблюдал молчание. Между тем ошибка уже сделана, меня знают многочисленные последователи школ, смотрящие косо на мои сочинения и жаждущие вредить мне всеми способами; поэтому я, без сомнения, смею желать быть известным и лучшим людям, имеющим силу и желание меня защищать… Быть может, они (сочинения Декарта – С. Ч.) показались бы более достойными прочтения, если бы трактовали предметы морали, но это тема, которой я совершенно не смею касаться. Ведь горячатся же профессора из-за невинных принципов моей физики; они не дали бы мне покоя, если бы я написал о морали. Один патер (Бурден) обвинил меня в скептицизме, так как я опроверг скептиков; один проповедник (Воэций) кричал обо мне как об атеисте, так как я попытался доказать бытие Бога. Что они сказали бы, если бы я пожелал исследовать истинную ценность всех вещей, которых человек желает и гнушается, состояние души после смерти, то, насколько мы обязаны любить жизнь и как мы должны быть устроены, чтобы не бояться смерти! И как бы мои убеждения ни сообразовались с религиозной верой, как бы они ни были полезны государству, все-таки с обеих сторон мне навязали бы как раз противоположные мнения. Поэтому я считаю за лучшее не писать более никаких книг… Впредь я желаю работать только для моего собственного самообразования и делиться своими мыслями в частной беседе» (45.264–266).
Декарт начинает подыскивать новое место, где он мог бы спокойно жить и работать. Узнав об этом, шведская королева Христина – его друг и собеседник по переписке – пригласила философа в Швецию.
Это весьма любопытный момент. Его стоит прокомментировать. Начиная с конца Средних веков, европейская элита начинает ценить образование и изысканную культуру – время невежественных и буйных баронов, которые с гордостью заявляют, что они лучше управляются с мечом, чем с пером, безвозвратно прошло.
Уже в XVI веке благородное происхождение и хорошее образование идут рука об руку. Соответственно, представители нового искусства, новой науки и новой философии часто находят поддержку среди сильных мира сего. Без этой поддержки и покровительства консерваторы и прежде всего церковь очень скоро просто «сожрали» бы этих людей.
В XVI–XVII вв. возникает такое любопытное явление как салоны. В них аристократия и представители новой культуры встречаются и обогащают друг друга. Аристократия обогащается новыми идеями, а творцы культуры деньгами и покровительством. Весьма характерно, что именно в Новое время термин «вульгарный» начинает использоваться как для обозначения низкого происхождения человека, так и для констатации отсутствия образования и общей культуры. Аристократия политическая все больше сливается с аристократией духа. В этом отношении, нет ничего удивительного в том, что в числе друзей по переписке у Рене Декарта была шведская королева.