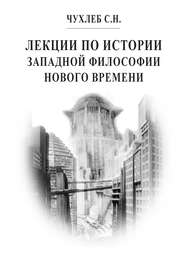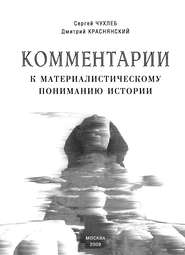По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цивилизационные парадигмы российской истории
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Традиционно историки и социальные теоретики подразумевают под
Современностью (Новейшее время) эпоху, начавшуюся после окончания Первой мировой войны (так называемой Большой войны). Если же рассматривать сущность процессов, то Современность оказывается тождественной сложившемуся индустриальному обществу. В этом отношении мы можем говорить о Современности как времени, начинающему отсчет с момента окончания Второй мировой войны.
Но и эти суждения требуют существенных оговорок. Так, например, индустриальное общество в Великобритании и США сложилось уже к концу XIX века. В западных же странах в целом, лишь во второй половине XX века. Если же брать мир в целом, то индустриальное общество находится лишь в стадии становления. Таким образом, с учетом этих оговорок, наверное, лучше говорить о последних полутораста лет как о времени становления Современности.
В книге «Европейская модернизация» Д. Травин и О. Маргания указывают следующие критерии, на основании которых возможно говорить о том, является ли данное общество в основном модернизированным или все же традиционным
«Во-первых, в модернизированном обществе существуют имманентные механизмы, которые обеспечивают постоянное возобновление экономического роста, несмотря на любые кризисы, его поражающие….
Во-вторых, модернизированное общество отличается от традиционного высоким уровнем гражданской культуры населения, благодаря чему политическая форма его существования становится демократия…
В-третьих, модернизированное общество в отличие от традиционного оказывается мобильным в физическом, социальном и психологическом смыслах…
В-четвертых, в модернизированном обществе человек обладает
способностью приспосабливаться к изменяющейся среде……..
В-пятых, в модернизированном обществе люди начинают во всех областях жизни действовать совершенно рационально, вместо того, чтобы ориентироваться только на традиционные представления».[17 - Травин Д. Моргания О. Европейская модернизация В 2 кн. Кн. Е – М. 2004 С. 38–45.]
Ведущей тенденцией эпохи Современности является формирование индустриального общества на Западе и втягивание в его орбиту обществ периферии. Теоретическим развертыванием этого тезиса выступает теория модернизации, возникшая после второй мировой войны. Это не случайно, поскольку именно после второй мировой войны модернизированное общество стало реальностью. Соответственно, теория модернизации предполагает, что в орбиту современной капиталистической системы рано или поздно будут втянуты все страны мира, которые тоже модернизируются. Этот процесс осуществляется и получил название глобализация.
У этой теории существует множество оппонентов. В самом общем виде они распадаются на два направления сторонники марксистской парадигмы и приверженцы концепции зависимого развития. По большому счету между этими направлениями не существует фундаментальных различий, и их приверженцы постоянно ссылаются друг на друга. Их объединяет общий тезис. Мировой капитализм неоднороден; он состоит из центра и периферии, и периферия всегда останется таковой – её удел нищета, бедствия, ограбление.
Безусловно, противники теории модернизации правы в том, что мировой капитализм всегда будет неоднородным, впрочем, как и любая сложноорганизованная социальная система – всегда будут существовать центральные и периферийные структуры. Именно это положение роднит обе концепции, поскольку марксизм выражает пафос социальных низов, а концепции зависимого развития рассматривают страны периферии в качестве «мирового пролетариата». Но проблема вовсе не в том, сохранится периферия или нет – она, безусловно, сохранится, а в том, что с ней произойдет. Продвинутые сторонники теории модернизации полагают, что она будет «ассимилирована» страны периферии будут модернизированы и органично «подсоединены» к Центру. Этот процесс подобен тому, как действовал капитализм в Европе – в рамках отдельного общества, возникшие капиталистические структуры не превратились в анклав, но переработали и поглотили структуры некапиталистические. В рамках отдельного капиталистического рынка существуют центральная и периферийная зоны, но разрыв между ними не носит катастрофического характера. Соответственно, теоретики модернизации полагают, что нечто подобное будет происходить и при возникновении мирового капиталистического рынка и мирового сообщества.
Эта позиция представляется нам наиболее аргументированной, чего не скажешь об их оппонентах. Мы видим, что процесс ассимиляции капитализмом мира весьма успешно осуществляется уже несколько столетий. Помимо Англии и Голландии, где капитализм имел автохтонный характер, все остальные страны Европы являют пример «догоняющей» модернизации, и весьма успешный пример. Тоже можно сказать и о ряде стран Америки, Азии и Африки. Таким образом, мы видим поэтапное расширение «ядра» мирового капитализма. И у нас есть все основания предполагать, что этот процесс будет продолжаться далее. По крайней мере, марксисты осуществляют свою критику с уже весьма ослабленных позиций. Они находятся на втором эшелоне обороны. Их концепция «мирового пролетариата» и «мировой буржуазии» есть вынужденная переформулировка старой теории Маркса о классовой борьбе внутри отдельного общества. Помнится, Маркс уже указывал на непреодолимую пропасть между пролетариатом и буржуазией и говорил об абсолютном и относительном обнищании социальных низов. После того, как эта идея была опровергнута реальным ходом событий, марксисты не нашли ничего лучше, как перенести её на анализ международной ситуации. Банкротство мрачных марксистских прогнозов в прошлом дает нам надежду на их банкротство и в будущем, тем более что существенно их схемы и способы аргументации не изменились. Кроме того, ныне, как и раньше, марксисты чрезмерно акцентируются на экстенсивных, грабительских механизмах существования капитализма и не желают замечать его сущности, выражающейся в мощной социальной, экономической, политической, культурной эффективности.
Иными словами, капитализм охотно развивается «вширь», но в основе этого развития всегда лежит движение «вглубь».
Наиболее слабым местом антимодернизаторских концепций является их неспособность предложить реальную альтернативу. Сторонники концепции зависимого развития уповают либо на «чудесную» роль государства, либо на создание альтернативной Западу региональной экономической системы. Экспериментирование с вмешательством государства до сих пор было малоуспешным, и нет оснований полагать, что в будущем оно будет принципиально иным. Что же касается создания региональных экономических систем, то это относительно недавние инициативы и делать выводы относительно их пока рано. Но, скорее всего, они не смогут противостоять мощи мировой капиталистической системы.
Марксисты же по-прежнему грезят о крахе капитализма и возникновении социализма. Любопытней же всего то, что наиболее продвинутые из них теперь не отрицают роль рынка. Но при этом они полагают, что в переходный период на пути к коммунизму рынок будет действовать под строгим контролем общества оно будет вырабатывать стратегию, а рынок обеспечивать нужную тактику.
К сожалению, этот план хорош лишь на бумаге. Такая система не может быть устойчивой, поскольку либо рынок «сожрет» государство, либо государство – рынок.[18 - Советский нэп закончился победой государства. В Югославии же балансирование между государством и рынком явилось перманентным источником нестабильности всего социора.] Такая система не может быть эффективной, поскольку государство будет парализовывать действие рынка, а рынок будет паразитировать на государственных структурах. Кроме того, строгий контроль общества в действительности есть контроль государства, базирующегося на собственных экономических структурах (так называемые «командные высоты» в экономике). В итоге бюрократия являющаяся «телом» государства окажется самостоятельным социальным классом. И почему марксисты полагают, что этот класс будет преследовать интересы общества, а не свои собственные, совершенно непонятно. Реальная история здесь свидетельствует не в их пользу.
Солидаризируясь с теорией модернизации, мы при этом не склонны впадать в прогрессистские иллюзии. Мировая капиталистическая система может «перегреться» и развалиться. Она может радикально перестраиваться, что повлечет чудовищные социальные катаклизмы. Даже в случае ее триумфа глобальные подвижки могут быть весьма значительными – политическая, экономическая, демографическая карты мира могут радикально измениться. Неизбежен гигантский исход населения из регионов и стран, не сумевших занять свое экономически оправданное место в мировой системе. Очевидно, что подобные процессы не могут не сопровождаться социально-политическими потрясениями чудовищной силы. Скорее всего, не стоит ждать от будущих столетий чего-то утопически прекрасного. В этом отношении они не будут сильно отличаться от столетий предшествующих.
Как видим, процесс мировой модернизации глубоко разбалансирован кризисы рождения индустриального общества в «ядре» и на «периферии» отягощаются кризисами взаимодействия «ядра» и «периферии». Это движение сопровождается серией империалистических войн, окончательным формированием и скорым крахом системы колониализма, возникновением индустрополитарных обществ с их претензией на мировое господство, взрывом национализма и религиозного фундаментализма.
К концу XX века многим теоретикам казалось, что, наконец, эпоха потрясений завершилась, история закончилась и теперь человечество, возглавляемое передовыми Западными странами, двинется по пути линейного, гармоничного прогресса. Эти упования были, прежде всего, связаны с окончанием «холодной войны». Но первое же десятилетие «новой эры» показало, что никакой «новой эры» нет – нестабильность приобрела лишь иные формы. И это неудивительно, поскольку центральный процесс нашей эпохи – становление мирового индустриального общества – не только не завершен, но лишь разворачивается в своих основных сущностных чертах. В этом отношении будущее, скорее всего, нам готовит не только новые формы конфликтов, кризисов и потрясений, но и «второе издание» прежних сюжетов, которые, казалось бы, уже принадлежат истории.
Например, в ближайшее время никто не ожидает масштабных империалистических войн. Они, действительно, маловероятны в ситуации мирового порядка, поддерживаемого лидирующим положением развитых капиталистических стран, и базирующихся на этой основе международных органов, возглавляемых США в качестве «мирового жандарма». Но экономический центр может переместиться, или США могут экономически надорваться, или может возникнуть новый мощный экономический, а значит и политический центр силы, или всё это может произойти одновременно – и тогда весь ныне существующий мировой порядок рухнет в бездну. В этом хаосе могут разгореться новые империалистические войны, развиться новые социальные и политические кризисы, возникнуть иные сверхдержавы.
Всё это очень похоже на то, о чем часто пишут коммунистические духовидцы. С той лишь разницей, что они вожделеют этот хаос, собираясь в нем поймать свою «коммунистическую рыбку». Что же еще ждать от радикальных интеллектуалов, не имеющих собственности, но имеющих идеалы? Нас же эта перспектива отнюдь не радует. Трезвому историческому уму трудно поверить в то, что подобный хаос может способствовать возникновению идеального общества. Конечно, интеллигент знает, как должно быть и он в ужасе от того, как всё происходит. Его невротическая тревога заставляет думать, что если всё не будет приведено в должное состояние, то человечество погибнет. Это лейтмотив многих интеллигентских писаний последних нескольких тысяч лет.[19 - Еще в XX веке до н. э. древнеегипетский жрец жаловался, что наш мир достиг критической стадии, дети больше не слушаются своих родителей, видимо, конец мира уже не очень далек.] В качестве альтернативы предлагается коммунистическое общество, которое единственное может спасти человечество. Это похоже на истерические заклинания либо капитализму будет положен предел, либо человечество погибнет. При этом как-то неосознанно предполагается, что человечество погибнуть не может, а если всё же и погибнет, то грош цена этому человечеству, которое не смогло соответствовать высоким моралистическим ожиданиям наших теоретиков.[20 - Забавно, как схож ход мыслей двух антагонистических направлений интеллигентского радикализма. Ведь и А. Гитлер сетовал на немцев и говорил, что если Германия не сможет выполнить свою историческую миссию, то она должна погибнуть.]
Мы не против торжества идеального общества. Лишь злонамеренный человек будет возражать против него. Но это не значит, что мы склонны приветствовать иллюзорные прожекты. В исторической данности у нас есть ряд экспериментов над обществом, предпринятых в социалистических странах. Они закончились с разной степенью катастрофичности. Это не было случайностью. Так называемый реальный социализм порождает беды и потери во много раз большие, чем капитализм. Реальные проблемы современного общества – экологический кризис, социальное неравенство, эксплуатация, войны и насилие – не только не будут разрешены этим типом общества, но будут еще более усугублены. Таковы факты. Конечно, можно говорить, что лишь стечение злых обстоятельств провалили это благое дело и необходимо попробовать еще раз. Но странным образом, те же самые люди, которые призывают нас вновь и вновь строить «царство Божье» на земле, невзирая на провал предыдущих попыток, в личной жизни проявили бы большую осторожность, и, став жертвой обанкротившегося коммерческого проекта, не рискнули бы пожертвовать последним, чтобы вновь войти в него.
Мы ни в коей мере не собираемся представлять капитализм как уже осуществившееся идеальное общество. Это крайне плохая схема, когда мы вынуждены бороться либо за идеальный капитализм, либо за идеальный социализм. В эту борьбу нас постоянно втягивают теоретики, полагающие, что к истории можно подходить с моральным мерилом. Но, к сожалению, история человечества абсурдна. Иными словами, она мало соответствует нашим представлениям о рациональном, моральном, эстетическом. Капитализм может похвастаться достижениями, которые вызывают энтузиазм у многих современников это и рост благосостояния, это и развитие демократии, и освобождение женщины и невиданный расцвет науки и искусства и т. д. И тот же капитализм породил множество чудовищных преступлений и несправедливостей, впрочем, как и все остальные типы общества. В этом отношении, он лишь отчасти может быть подвергнут суду, поскольку, как отмечают сами марксисты, капитализм – это царство стихийности. В то время как все преступления социализма должны быть оценены по достоинству, поскольку социализм – так, по крайней мере, заявлено в проекте, – это царство осознанной, дееспособной свободы. Но, впрочем, это как раз пример негодного моралистического подхода к истории.
В реальности же мы видим, что на данный момент времени капитализм наиболее эффективная, жизнеспособная социальная форма. И она очень привлекательна для многих живущих ныне на земле – они голосуют за неё ногами. И нам остается лишь надеяться, что все положительные стороны капитализма со временем будут усилены, а отрицательные стороны, по возможности, минимизированы.
На этом пути адекватная социальная теория оказывается весьма полезной. В этом отношении политическая доктрина марксизма должна быть преодолена, а его социальная теория сохранена и приведена в соответствие с современностью.
Феноменология русской жизни
Ныне мало найдется россиян, которые были бы полностью довольны положением дел в своем Отечестве. Многие из них винят во всем большевистский эксперимент, который уничтожил исконную Россию и насадил здесь чуждые порядки, обернувшиеся неисчислимыми бедами. Другие же проклинают силы, разрушившие советское государство, и заявляют, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Но тот, кто обратится к прошлому России, с изумлением обнаружит то, что ныне воспринимается, как пагубные явления последнего века и современности, в действительности имеет давнюю историю и обнаруживается и в XIX, и в XVIII, и в более ранних веках. Это особенно бросается в глаза при чтении записок иностранцев, посетивших Россию. Они, причастные к другой культуре, замечают многое из того, на что не обращают внимания отечественные авторы в силу привычности, «естественности» для них российской повседневности. Эта повседневность оказывается для россиян естественным фоном, не предполагающим альтернативы. Результат такого чтения – очевиднейший вывод – большевизм – это не случайность, а квинтэссенция российской цивилизации. Многое из того, что мы привыкли связывать лишь с советской и постсоветской Россией, обнаруживается и пятьсот лет тому назад. Иными словами, феноменология русской жизни не меняется. Для иллюстрации этого тезиса мы позволили себе привести подборку цитат, извлеченных из записок иностранцев, посетивших Россию за последние пятьсот лет[21 - Нас могут упрекнуть в том, что здесь мы сосредоточились на отрицательных сторонах русской жизни, но, во-первых, эти моменты оказываются продолжением того, что многие воспринимают как глубоко положительные явления сильное государство, патернализм, всеобщее равенство в бедности, тенденция к автаркии, возможность насладиться зрелищем падения и унижения сильных мира сего и т. д., а, во-вторых, перефразируя Льва Толстого, можно сказать, что все общества счастливы одинаково, и несчастны каждое по-своему.При желании можно пропустить эту подборку цитат и обратиться непосредственно к теоретическому тексту.]
1. «Что касается до простого народа… у него беспрестанно отнимают и бодрость духа и деньги……иногда под предлогом какого-нибудь предприятия для общественного благосостояния, а иногда вовсе даже не ссылаясь ни на какую потребность в пользу государства или царя»[22 - Дж. Флетчер «О государстве Русском».// В кн. «Россия XVI в. Воспоминания иностранцев». Смоленск Русич, 2003. С. 52].
2. «… Не препятствовать насилию, поборам и всякого рода взяткам, которым князья, дьяки и другие должностные лица подвергают простой народ в областях, но дозволять им все это до окончания срока их службы, пока они совершенно насытятся; потом поставить их на правеж (или под кнут) за их действия и вымучить из них всю или большую часть добычи (как мёд высасывается пчелою), награбленной ими у простого народа, и обратить её в царскую казну, никогда, впрочем, не возвращая ничего настоящему владельцу как бы ни была велика или очевидна нанесенная ему обида…. Показывать иногда публичный пример строгости над должностными лицами (грабившими народ), если кто из них особенно сделается известным с худой стороны, дабы могли думать, что царь негодует на притеснения, делаемые народу, и таким образом, сваливать всю вину на дурные свойства его чиновников»[23 - Дж. Флетчер «О государстве Русском».// В кн. «Россия XVI в. Воспоминания иностранцев». Смоленск Русич, 2003. С. 61].
3. «Если же у кого и есть, какая собственность, то старается он скрыть её, сколько может, иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятельском. Этот страх простирается в них до того, что весьма часто можно заметить, как они пугаются, когда кто-то из бояр или дворян узнает о товаре, который они намерены продать. Я нередко видал, как они, разложа товар свой… всё оглядывались и смотрели на двери, как люди, которые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей какого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского, и чтоб они не пришли со своими сообщниками и не взяли у них насильно весь товар. Вот почему народ… предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания»[24 - Дж. Флетчер «О государстве Русском».// В кн. «Россия XVI в. Воспоминания иностранцев». Смоленск Русич, 2003. С. 67–68. Сразу вспоминаешь о поборах и вымогательствах представителей власти в современной России.].
4. «…им не дозволяют путешествовать, чтобы они не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с их обычаями. Вы редко встретите русского путешественника, разве только с посланником или беглого; но бежать отсюда очень трудно, потому что все границы охраняются чрезвычайно бдительно, а наказание за подобную попытку, в случае, если поймают виновного, есть смертная казнь и конфискация всего имущества»[25 - Там же. С. 69. Напомним, что границу в России действительно открыли лишь в конце XX века.].
То же отмечает и Ричард Пайне в книге «Россия при старом режиме»
«Никому не было дано ускользнуть от этой системы. Государственные границы были наглухо запечатаны. На каждой ведущей за границу столбовой дороге стояли заставы, поворачивавшие назад путешественников, не имевших специальных проездных грамот, получить которые можно было, лишь обратившись с челобитной к царю. Купец, каким то образом пробравшийся за границу без такой грамоты, наказывался конфискацией имущества, а родственники его подвергались пытке, чтобы вынудить у них причину его отъезда, и затем ссылались в Сибирь. По Уложению 1649 г., россиян, уехавших за границу без позволения, а по возвращении разоблаченных в том по доносу, следовало допросить о причинах поездки; изобличенные в государственной измене подлежали казни, а уезжавшие заработать наказывались кнутом. Главной причиной этих драконовских мер было опасение потерять служилых людей и источник дохода. Опыт показывает, что, познакомившись с жизнью на чужбине, россияне теряли желание возвращаться на родину «русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя, ради их прелести, – высказывался в XVII в. князь Иван Голицын, – одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей, не только что боярских детей, останется кто стар или служить не захочет, а бедных людей не останется ни один человек». Не забывали, что из примерно дюжины молодых дворян, посланных Борисом Годуновым на учение в Англию, Францию и Германию, домой не вернулся ни один»[26 - Р. Пайпс «Россия при старом режиме» М. Захаров, 2004. С. 156–157]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: