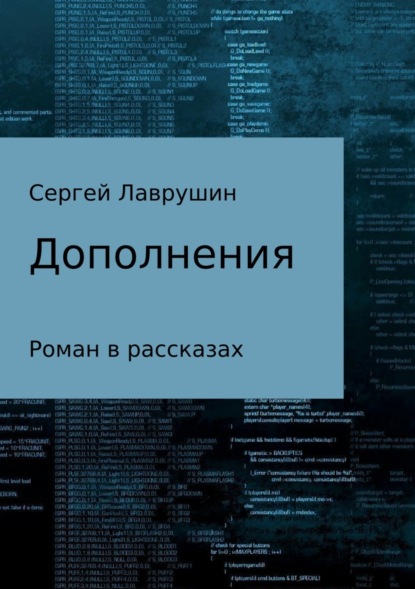По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дополнения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ещё раз по-отцовски увещеваю тебя: признайся и выдай сообщников и сообщниц чёрта и моли Бога о милосердии.
Матеус впервые молчал весь белый и вспотевший.
– Гордыню ты свою уже демонстрировал, но я с тяжким сердцем вынужден дать согласие на пытки. Ибо, как говорил Блаженный Августин: «Пытки – это настоящее благо, раз они, нанося вред лишь «темнице души», могут вернуть на истинный путь бессмертную душу».
И тогда Матеус сказал первое, что пришло ему в голову в этом случае, но единственное, что могло озадачить, смутить отца Модестуса: «Это немного неточная цитата».
А в это время Стефан Балич вздыхал притаившийся среди публики:
– Учитель! Вы хотите учить, но мало кто хочет учиться. Ваш талант мог бы научить, если бы они стали слушать. А вы маетесь со своими мыслями всуе и не находите пристанища. Как можно пронести огонёк сквозь дождь. Но опустите его на сухие дрова и согрейтесь. Всему своё место, а ваше рядом со мной и другими вашими друзьями. Нас мало, но если и мы станем учителями, и у нас тоже будут ученики – то нас было бы уже много!
В ночь перед днём пыток Матеус беспокойно спал и видел страшный сон. Отвратительные перекособоченные звери бегали вокруг него и хохотали. Затем он шёл по коридору среди железных стен, и в какой-то комнате стояло зеркало. «Если посмотрюсь в него, то узнаю, как умру», – подумал мэтр. В зеркале все цвета были перепутаны, и стоял страшный безликий человек в шляпе, а потом оттуда вышел сгорбившийся разгневанный и всклокоченный старик с ножом. Далее всё те же звери выстроились в колонну, и каждый подходил к Матеусу и отчётливо и страшно говорил: «Я тебя люблю». А последним в очереди оказалась огромная железная голова с рогами и клыками, и она тоже совершенно серьёзным тоном произнесла: «И я тебя люблю». А потом раздался громогласный голос: «Когда человек прыгает в пропасть, а ты хватаешь его за руку, ты либо вытаскиваешь его, либо падаешь вместе с ним. Пойми, чего ты хочешь, и что тебе надо?».
Матеус проснулся. Он весь дрожал. «Так мог говорить только сатана, – в страхе думал он. – Кому нужна моя книга?»
После пыток Матеус Рылюс всё признал, но, тем не менее, не выдал своих сообщников. После того, как ему зачитали приговор, он сказал опухшим без единого зуба ртом: «Многие мои суждения были поспешными. Многие были в такт разговора. Но так работала моя мысль, и со временем я делал выводы и выбирал лучшее».
3
Если ты дочитал до этого места, читатель, то можешь расслабиться: тебе уже никто не будет рассказывать об этом надоевшем Геракле. Никто и, скорее всего, никогда. Тебе вообще никто больше ничего не расскажет с этих страниц, потому что мэтр Матеус Рылюс умер. Его сожгли, и прах развеяли по дорогам.
Я же теперь буду лишь смотреть со стороны и передавать те события, что произошли вслед за казнью. По возможности точно. Практически без комментариев. У этого рассказа больше нет голоса, которому я сам мог бы довериться. Можно расслабиться и поглазеть со стороны. И пусть Матеус часто был не прав, но он думал и пытался понимать. Скажите честно, вы или ваши друзья… как часто вы этим занимаетесь?
А где же Стефан? Когда пламя начало жечь, а Матеус кричать, молодой человек не выдержал и горько заплакал. Люди увидели это и расступились. Отец Модестус подскочил к нему и большим деревянным крестом, что держал в руках, со всего размаху изгнал демонов прямо с висок убивающегося Стефана. Тот осел, и вооружённые люди бургграфа подхватили его. Вскоре он уже сидел в той же камере, где недавно проводил свои последние часы его учитель.
На следующий день почти весь город валил в церковь на краю городка, чтобы помолиться вместе со знаменитым победителем сатаны. «Я уже слишком стар. Пусть мой нелёгкий крест принимают молодые», – думал отец Модестус, облачаясь в рясу и надевая на голову низкую инквизиторскую четырёхгранную шапочку. Его лицо было серьёзным, руки тряслись. Он волновался, ведь отлично понимал, что это был его последний процесс. Как много ещё не сделано! Пришлось объявить народу, что это был простой колдун, а в этом нет истинной победной чести… Ещё он не выдал своих единоверцев, что говорит, скорее, о неудаче… Слабо вёлся сам процесс, но как было вести его иначе? У него не было ни семьи, ни имущества, за что можно было бы зацепиться. Он говорил не то, что обычно говорят, и на костёр я его поторопился отпускать. Надо было надеть на него унизительные санбенито, и тогда он уже не так часто раскрывал бы свой рот – позорный колпак и нашивки чертей говорили бы куда больше, и его просто бы никто не слушал. Время моё ушло. Зачем я здесь? Кем я был раньше? В крупных городах обо мне говорили шёпотом, и десятки помилованных днями стояли на коленях в молитвах. Может быть я хотел в последний раз испытать свою силу? Но где? Здесь? С этим несчастным, заблудшим человеком? Как много ещё этих несчастных лжеучёных бродят по дорогам и смущают народ, на все лады трактуя книги. Понимать! Мечтатель ещё сам не понимал, какой он поднимает безумный вопрос. Понимать процесс – значит управлять процессом, а чем может управлять человек, который не справился даже со мной с таким, одной ногой в могиле, забывшем всё, что учил и знал всю жизнь?
Верить и знать – вот, что было написано на перстне инквизитора. Но память его на самом деле подвела, и он не чувствовал того религиозного экстаза, а почти всё его внимание сосредоточилось на дрожи в коленях и руках.
Весь день и весь вечер звонили колокола. Путь праведников и молящихся об избавлении грехов начался от места казни. Отец инквизитор в сопровождении местного приора вёл народ за собой, неся всё тот же крест, с двух сторон ему помогали послушники. Вошли в церковь и подошли к алтарю, вокруг которого горели свечи. Народ еле-еле протискивался в необычно узкие двери, и всё прибывал и прибывал. В экстазе борьбы, победы и любопытства задние ряды напирали на передние. Кто-то случайно толкнул отца Модестуса, и старик, не устояв на ногах, пошатнулся и упал прямо на подсвечники. Его ряса мгновенно вспыхнула. Инквизитор, не издав от удивления ни звука, сделал несколько шагов в сторону и поджёг штору. Вероятно, отец Модестус не понимал до конца, что произошло, и всё ещё надеялся остаться в живых. Но закопчённые и прокуренные благовониями шторы уже горели, и дым почему-то был горек и резал глаза. Задние же ряды ещё не знали, что происходит и не стремились выходить и спасаться.
Но вдруг заполыхали стены, и началась паника. Около тридцати человек в этот день погибло от удушья и ожогов.
Ещё раз. А где же Стефан? Он идёт по дороге вдоль деревьев. Не спрашивайте, как это так получилось. Я так захотел. Но книг в его руках нет. Это было бы уже слишком. Может быть, когда-нибудь он ещё использует свои знания по интересной ему медицине и, помолясь Богу, выпишет рецепт. Ещё мне захотелось, чтобы всё закончилось там же, где и началось: на дороге, покрытой пеплом, с камнями и зеленью деревьев.
На этом стоит закончить, потому что чем больше информации, тем сложнее понять. Точно и просто. А что мне ещё надо?
4
Друг Андрюха сказал, что надо было бы процесс суда как-то изощрённей описать. Я даже книжку в букинистике про инквизицию купил. Прочитал – очень интересно, но какое это имеет отношение к моему Матеусу Рылюсу? Рассказ ведь не про суд, а про то, что всем плевать на Матеуса и на его книгу про Геракла, которая, честно говоря, и правда чушь собачья.
Есть человек ли, нет человека; есть судьба, сулившая будущее, и нет ни судьбы, ни будущего. Вся жизнь только пролог. Без развития, кульминаций и развязок. Не успело одно закончиться, как валит ещё что-то. Только потом понимаешь: ого, это было целая история! Нет, не история. Вечные сменяющие друг друга прологи к концу, который не даст ни итога, ни искупительного смысла. И даже точки не будет поставлено в этом конце, а только обрыв страницы, как если бы я, например, в темноте замечтался, и мысль моя, не замечая края, продолжает вести рукой. Мысль идёт, и рука пишет, но пергамент закончился, и творчество моё бессмысленно.
Глава 6 «Знакомство, или случай на даче»
Кресло я заметил в первый же раз, когда пошёл бродить по заброшенным участкам соседнего СНТ. То, в котором купил дачу я, было хорошо заселено и облагорожено, что есть деревня, только в миниатюре. Но стоит свернуть с любого перекрёстка влево, можно оказаться в другом мире, ином, блин, мире с заросшими огородами, узкими лесистыми аллеями проходов-улиц, полувидными из-за деревьев, кустов и лиан домами из бруса или даже кирпича и сгнившими заборчиками на толстой цепи под замком. Кто эти люди, что могут себе позволить бросать такие участки? Кто эти счастливцы? Я тоже хочу иметь много дорогих, хороших и возделанных огромным трудом вещей, которые я мог бы бросить и мне их не жалко. Это значит, что у меня есть ещё и ещё. Это значит, что я даю пощёчину судьбе, душе мира, всей метафизике, плюю на неё. Это бы значило, что она не сделала из меня голодранца. Так было у меня, когда мой первый рабочий день совпал с первым экзаменом в аспирантуру – и я на него не пошёл. Не пошёл на экзамен! С улыбкой не пошёл – и никаких проблем – и ничего мне не было. Ну так и тут. Такой прикол над вселенной: строить двухэтажный дом, рядом сарай, беседку, обрабатывать землю, а потом бросить и дом, и сарай. «Да ну!» – сказать и всё. Сказал – сделал. А вселенная такая: «Постой, ты же так старался, я сама хотела тебя этого лишить, ну как же… хнык, хнык», – плачет вселенная.
Нет, конечно нет.
В этом случае ответом запустения может быть толь ко смерть и непутёвые наследники. Идёшь по этому иному миру заросших огородов и узких проходов, по бокам сорный лес пожирает дома, а сам думаешь о смерти, наследниках и о том, кто всё-таки победит?
– Я тут всё на мопеде объездил, – сказал мне Сашка. Прямо от его дачи в сторону три участка и вот она – граница. Смотришь через заборы и удивляешься: «Как бы тут было уютно». «Это теперь моё!» – порыкивает ветерком сорный лес. Он просто задыхается от гнева, когда я здесь хожу, ибо было мертво, а теперь нет. Пугает меня. Это и противно и захватывающе до мурашек: над– или точнее анти-человеческое. Лучше бы мужик с топором. Ну нет, нет, это я, возможно, переборщил. Да и рассказ не об этом.
Дом был просто, мне казалось, огромным по местным дачным меркам. Метров десять шириной, два этажа, пластиковые окна, открытый балкон. Две огромные яблони, берёза у входа, прорезиненные дорожки и высокая почти по плечи гадость-трава, я не знаю, как называется, с гроздьями жёлтых цветков, растущая повсюду. Это я всё разглядел, стоя на цыпочках кирзовых сапог, через неухоженный небритый забор. Нормального подъезда к дому тоже не было. Где-то там слабые две колеи от колёс легковушки обратно эволюционировали в полудохлую тропинку… Да чёрт с ней, с тропинкой, это же хоромы, дом, тут жить можно, как такое забывать в этих зарослях? Я бы всё это перевёз с собой, сложил бы в мешок, запихнул в карманы. Но лишь тишина мне в ответ.
Подхожу ближе и смотрю меж ставень ворот, а там. У дальней яблони культурный деревянный шалаш с обвалившейся лесенкой – это детский домик, большое крыльцо, точнее веранда, пристроенная к дому. Рядом сквозь кущи винограда угадывается удобная беседка. В ней массивный стол, пластиковые стулья и два деревянных кресла: одно, как просто кресло, другое – вроде шезлонг. Мебель небольшая, хорошая, могли бы и в багажнике увезти. Мне б такое пригодилось.
Но я же не тать какой-нибудь, забулдыга, чтобы перелезать через ворота. Я спокойно пошёл дальше. Но! Внимание, подходит время для «Но!» Спустя какое-то время – месяц, может, два, ближе к осени я снова отправился погулять по посёлку и выбирал безлюдные тропы, дабы в одиночестве мечтать и отдыхать. Вдоль тропинок из-под ног тянулась с видом древней окаменелости труба для полива, как реликвия, открывшаяся после схода ледника. Кое-где то прямо, то вкось стояли столбы с обрезанными годы назад проводами. Я шёл, сбивая палочкой траву, изредка, когда что-то вызывало моё любопытство, заглядывая в разбитые окна и открытые двери. И тут – бах: разломанные воротца, заросли по шею, а сквозь них чёткая манящая тайной тропинка.
Я оглянулся по сторонам. Внимательно прислушался, нет ли шума человеческой деятельности. На всякий случай ещё и принюхался. Тут же росла яблоня. Я взял падалицу и надкусил. Жёсткий, кислый и вяжущий вкус заставил меня действовать. По той тропинке я прошёл всю дачу насквозь и оказался на задках соседней. А это была та самая: с двухэтажным домом, беседкой и креслами – вон как раз торчит спинка шезлонга. Я смотрю на всё теперь изнутри, прямо из кустов бурьяна, стою, не двигаясь, озираясь, как голливудский маньяк. Если бы камера снимала от угла дома или от забора, я был бы невидим и страшен.
Я сделал несколько шагов, опасаясь соседей. Но их нет, нет, всё зарастает, покинутое ни в этом и ни в прошлом году.
А ведь кресло ничего такое. Хвать его и перетащить к себе.
Я вышел тем же самым путём и продолжил прогулку по джунглям. Сорвал яблоко с другого дерева, оно оказалось вкуснее первого. Я брёл неспеша, любуясь гибелью некогда пришедшей сюда цивилизации огородников и эскапистов. Вдруг одна дача оказалась незаброшенной! Вот уж диво, лысое пятно на волосатом затылке. Одна женщина тяпала грядки. Как она добирается сюда? Не страшно ли ей одно в этом краю? Не испугалась ли она меня, бродящего без цели в её пустынных краях? Я могу ей сказать, что собираю яблоки, если она бросит на меня подозрительный взгляд или… закричит. Нет, даже не отвлеклась. Я прошёл мимо. Кто же из нас насторожился больше?
Потом у меня была дневная смена. Приехал домой поздно, ужинал, спал. Потом день, ночная смена. Лежу ночью на кривом коротком топчане, не вытянуться, протёртый дерматин, поролон высыпался в прошлом веке. Лежу и думаю: завтра чуть свет быстро-быстро сдаю смену, чешу на дачу и забираю кресло. Вот те раз-то, решил!
И вот я иду по своей улице. На трёх-четырёх огородах оживление. Кого хоть чёрт пригнал сюда в такую рань? Но меня не проведёшь, ха-ха, я же решил идти заброшенными дачами, крюком раза в четыре длиннее прямого пути, но пустынным и безопасным.
Дошёл до места. Так же, как прошлый раз, постоял настороженно и, только убедившись, что никого здесь с тех пор не было и ничего не изменилось, я быстрым шагом направился к беседке. Вошёл. Вот оно. Стою любуюсь. Так, а может, чего тут ещё есть. Да нет нихрена, что тут может быть. Провода удлинителя тянутся, коробочка. В ней гайки какие-то, мусор, короче. Короче, чё? О, стеклопакет перед рожей, прикольно. Беседка заросла виноградом. Чё, сорвал виноградинку. Кисленькая, ну. А чё?
Кресло. Да. Я поднял его нелёгкий вес на вытянутые руки, упёрся коленями, постоял немного. Всё решено, жребий брошен. Развернулся на девяносто градусов. Взвалил на горб. Поправил поудобнее. Ещё раз огляделся по сторонам. Да-да, всё нормально. Ничего трудного. Если что, потом поменяю плечо. А сам всё стою на месте. Широковатое кресло, издалека казалось меньше.
И только тогда, когда я сделал первый, потом второй шаг – даже третий в счёт не шёл – вот тогда я понял, что переступил некую черту, совершил преступление, но остановиться уже не мог. Обаяние зла, возможность уйти безнаказанным, радость греха и зов лёгкой наживы пленили мою душу. Лианы винограда у дома, где я вошёл, цеплялись за ручки и ножки моей ноши, не давали пройти. «Прочь! Прочь!» – с усилием и гневом отпихивал я их, безумец, и падал всё ниже.
Держать кресло так было неудобно. Я закинул его за спину, задние ножки слишком длинные и оттопыренные колотили по ляжкам, мешали идти. Тогда я поднял ещё выше, почти на самую голову, но так я себе шею сверну. В итоге продел правую руку в подлокотник, весь вес навалился на правое плечо, левой рукой приходилось лишь поддерживать груз – и таким макаром я двинулся в путь.
Вот дотащу его сейчас сейчас и поставлю в мансарде. Буду посиживать на нём, в окошечко ещё поглядывать, да книжечку почитывать. Это ничего, что сейчас мне тяжело и стрёмно, но зато ой как хорошо мне будет потом! Замечательное чувство. Моё любимое. Не то, что когда безнадёга душит, наваливается всей своей весом на грудь, когда всё серость и не знаешь, когда это закончится и где выход. Какой выход? Если ничего не происходит, если ничего не предвидится, ничего, ничего… Разве ничему бывает конец? Это же ничто – у него нет ни конца, ни начала, ау! Попал в него раз – пиши пропало.
Как только не приходится решать проблему житейской трясины: вот кресло спёр, например. Хандра, она отчего ведь обычно бывает? От нечего делать. Можно ещё мебель в квартире переставить. Лежишь на диване – одно чёрте что вокруг, или даже ещё хуже. А тут бах! Дай-ка диван переставлю! А ещё стол… А ну ещё и шкаф! Переставил. Весь потный. Так о чём это я? Почему я это сделал? И принимаешься за дело. За настоящее. Всё от нечего делать, господа. И лишь иногда оттого, что мир – отстой.
Тем не менее я приблизился к повороту. Плечо отсохло. Стоп, перекинем на другое, снова в путь.
Я быстр и смел, я никого не боюсь, я здесь самый опасный в данную минуту. Правда, не хотелось бы показываться на глаза той женщине с тяпкой… ну, чтобы она меня видела, то, сё. А вот и нет. Этот единственный огород под замком. Проскакиваем дальше.
Впереди поворот на главную улицу. Проделав треть пути, я останавливаюсь, чтобы отдышаться. Ставлю кресло на землю. Прямо посреди перекрёстка напротив кирпичного дома вообще без забора и с широко распахнутой дверью. Этот участок зарос всякой всячиной так, что даже невозможно определить его границы, словно и не было ничего, а дом посреди дебрей как-то сам материализовался в метрах трёх над землёй, упал, немножко рассыпался, да так и остался.
Упоённый преступлением, побродил я, как привидение, в развалинах этого замка и, выйдя снова на дорогу, увидел кресло на том же месте. Да… никто его не унёс, пока я лазил в кустах. Ну, ладно, понесли дальше. Уроды, настроют домов, а потом бросают, я хренею. Мёртвый город в джунглях. Сейчас выскочит какой-нибудь археолог и меня, как персонажа массовки, расстреляет или кнутом по морде. Если б пошёл прямым путём, то уже дошёл. Сидел бы сейчас, балдел.
Иду, испытываю балдёж иного плана, по центральной улице этого товарищества. Здесь колея живее, чем в проулках, укатанный некогда грунт ещё не везде зарос травой. В принципе, я могу свернуть на любом перекрёстке, чтобы перебраться в свою деревню, но двигаюсь дальше: через два-три пролёта будет прямая тропинка к моему дому.
Прохожу мимо дачи, у которой прямо полстены отслоилось и повисло, глядит в небо, каши просит. Что могло стать причиной такой деформации? Скольжение грунта? Нет, не думаю. Изнутри бились головой? А вот следующий домик, ну что есть тургеневская усадьба: вся в сирени широкая веранда под низким фронтоном зарешечена и остеклена. Хочется представить, что там внутри очень светло, посредине стоит круглый стол покрытый белоснежной скатертью, а на ней спелые яблоки. Но я не могу подойти поближе. Моё кресло даже думать мне мешает о хорошем и прекрасном. Да и что думать – там, как и в других дачах, провалившейся гнилой пол, остатки тумбочек и одежды, сундуки с сокровищами. Вынимаю руку из одного подлокотника, вставляю другую руку в другой подлокотник, поддерживаю кресло макушкой, разминаю первую руку, перекидываю на другое плечо. Иду, шаг лёгок и ритмичен. Потом повторяю все действия – всё чаще.
Я нищий человек. Я понял. Возможно, даже нищий духом. Я не могу бросить это кресло.
Ну, а что? Раньше оно никому не нужное врастало в землю. А теперь оно нужно мне. Новая жизнь старых вещей. Прохожу мимо домишки сплошь покрытого цеплючим плющом. Сплошь. Совсем зелёный бугор, и не признать, чем это было раньше, если бы дверная дыра не чернела сквозь полог лиан. Не элемент ландшафта, а гнилая, вонючая бабка. Даже не могу скрыть своей брезгливости. Заброшенный дом – это всё-таки дом, а тут окончательное преображение: сырость, вонь, насекомые, человеческая пыль.