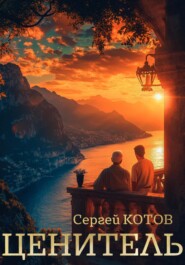По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эпоха перемен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я же говорил – не стоит там есть вообще. Мужики с собой носят. Мало того, что дорого, так ещё и отраву дают.
– Дак к тебе же собирался! Когда готовить было?
– Вот и съездил, – улыбнулся я. – Ладно, из продуктов есть что?
– Да я овсянку сварил и борщ, раз уж остался-то, – ответил отец. – Думал, что приедешь всё-таки… а ты чего не по форме?
– Нас в гражданке отпустили. Чтобы патрули не записывали, – пояснил я.
– Да ты проходи, руки мой. Голодный же небось!
– Пап, да я сам разогрею. Время первый час! Отсыпайся иди, завтра наговоримся.
– Я ещё хотел чего-то взять отпраздновать – но у нас опять с зарплатой швах… и пенсию задерживают. Слышал в новостях, что с бюджетом творится? Обещают этот… как его… секвестр! Вот и попали под него, наверно…
Этот его оправдывающийся тон мне и тогда-то было слушать тяжело. А сейчас так вообще невыносимо.
– Не беспокойся, – ответил я, стараясь не выдать эмоции. – Теперь всё хорошо будет. Обещаю.
– Ладно-ладно… вот отдохнёшь, а там учись уж!
Кот потёрся о мои ноги, потом поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза. Потом отступил и вальяжной походкой двинулся в комнату.
Я скинул кроссовки и, захватив пакет с формой, которую планировал постирать, пошёл в ванную, руки мыть.
Отец к себе не шёл. Ждал меня в коридоре. Я же с досадой смотрел на пластиковый агрегат, похожий на корыто, с моторчиком сбоку, установленный на специальной подставке у ванны. Блин, и точно: первая машинка-автомат у нас появится только в девяносто восьмом, когда отцу начнут пенсию регулярно платить.
Проблема. Чтобы камуфляж (или, как принято говорить, «комок») отстирать, его замачивать нужно было. Прямо сейчас.
– Что такое? – спросил он, когда заметил, что я мешкаю.
– Да ничего. Форму замочить надо. У нас повседневная – камуфляж. А в лагерях и полевые выходы были, и штурмовые полосы…
– А-а-а, ну давай я…
– Пап, иди лежать! Давай я тебе чаю сделаю, а? Без сахара, чтоб живот не тревожить.
Отец внимательно посмотрел на меня. Он явно собирался что-то сказать – но я не помнил, о чём тогда шла речь. Вроде бы ничего такого значимого не было… может, моё поведение изменилось – и это снова меняет содержание разговоров?
– Маман не видел? – вроде как небрежно бросил он.
Я глубоко вздохнул и тут же чуть не рухнул от головокружения. Нет, так нельзя: надо срочно чего-то сожрать. Или хотя бы выпить сладкий чай для начала.
– Ты опять ей звонил? – поинтересовался я.
– Ну да… а чё ж нет-то? Мать всё-таки… а тут присяга… такое дело…
Я выключил свет в ванной и пошёл на кухню. Отец последовал за мной.
– Не стоило, пап… – сказал я мягко. – Там… давно всё понятно.
Отец глубоко вздохнул и сел, вроде как невзначай потрогал грудь с левой стороны.
Именно сердце его и доконает. Необследованные вовремя сосуды, несделанное вовремя шунтирование… а ведь его готовы были в Бурденко принять! Врачи говорили, что ещё лет десять можно было давать с очень большой степенью вероятности.
– Ты не держи на неё зла…
– Пап, да в мыслях нет, – улыбнулся я. – Я благодарен ей за всё. А остальное… что ж, если она счастлива, то это хорошо.
– Вот и правильно мыслишь, – улыбнулся отец.
Конечно, раньше я говорил куда более резко. И в выражениях не стеснялся. Не понимая, что делаю только хуже единственному оставшемуся у меня по-настоящему близкому человеку.
Мама ушла от нас три с половиной года назад. Мне было тринадцать, и случившееся для меня стало полной неожиданностью.
Да, родители всё чаще ругались. Мама жаловалась на безденежье и неустроенность. Выговаривала отцу. Тот пытался что-то делать – но, видимо, действительно бывают такие люди, которые совершенно не приспособлены к жизни в эпоху дикого капитализма. Он пытался честно зарабатывать деньги, как его учил всю жизнь мой дед – убеждённый коммунист. Разумеется, безо всякого успеха. Потому что в ту эпоху деньги не зарабатывали – их делали. Часто буквально из воздуха…
Я набрал воды в чайник и поставил на плиту. Нашёл «трещётку» – зажигалку для конфорок, пустил газ. Вспыхнуло синее пламя.
– Чай-то есть, пап? – поинтересовался я.
Вместо ответа отец достал с полки маленькую пачку рассыпного «Майского».
Я удовлетворённо кивнул.
Несколько лет назад, когда военные хорошо зарабатывали, мама вроде как была счастлива. Правда, как я теперь понимаю, немилосердно транжирила деньги. Особенно в Польше, куда отца перевели в качестве благодарности за безупречную службу. Она покупала себе кожаные плащи, которые стоили дороже, чем отец получал в месяц. Косметику французскую, духи – этого добра у нас было навалом. В то время, как другие старались откладывать доллары и приторговывали техникой во время поездок в отпуск раз в год.
Я достал сахар и насыпал четыре ложки в кружку. Отец улыбнулся.
– Сладкоежкой остался, – сказал он.
– Тебе лучше без сахара пока, – ответил я. – Живот поберечь.
– Да я ж не спорю!
– И не крепкий, – предупредил я. – А то не уснёшь.
– Ну ты совсем-то меня за развалину не держи, – улыбнулся отец. – Усну я. Нормально всё, делай покрепче.
И всё же, несмотря на мамино поведение, отец перед самым выводом из Польши успел машину купить. В Германии, которая тогда только-только объединилась. Экспортную модификацию ВАЗ-21013, красную. Мы даже успели на ней съездить к родственникам в Самару. А вот на пути обратно у неё застучал двигатель, который отец с тех пор пытался перебрать. К сожалению, безуспешно. Он так и продаст её, по дешёвке – как раз когда я на первом курсе буду учиться…
– Кстати, – сказал я. – Просьба к тебе. Машину пока придержи, хорошо?
– Да на кой её держать-то? – отец пожал плечами. – Ничего я там не сделаю. Надо движок менять.
– Я видел в автомагазине рядом с храмом движок продаётся от шестёрки, – сказал я.
Помню, что действительно присматривался к этому движку, когда учился в одиннадцатом классе. Мечтал всё.