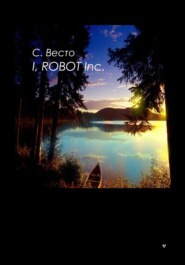По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сумерки эндемиков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сейчас можно представить такую ситуацию. Женщина развивается, достигает биологической зрелости, почти не задерживаясь покидает мир, вместе с тем показатель, катастрофически летевший на протяжении пары сотен лет вниз, практически обвалом, вдруг остановился, как лошадь перед дилеммой, достигнув отметки критического равновесия. И случилось это опять одновременно во всех регионах планеты. Специалисты держались руками за головы, биологический вид оцепенело смотрел в одном направлении то ли в пропасть, то ли на новую нормальность. Теперь среднестатистическая продолжительность жизни женщины составляла от девятнадцати до двадцати трех лет.
Нужно сказать, не все участники событий наблюдали сорвавшуюся с цепи эволюцию с трагическим выражением на лице. Культура перестраивалась настолько быстро, что отчаяться успевали только оптимисты. По законам военного времени реальность была воспринята как данность.
Оставалось выяснить, кто враг.
Исследователи, занимавшиеся вопросом, установили несколько твердо подтвержденных фактов. Во-первых, вопреки устоявшемуся мнению, увеличить продолжительность женщин оказалось возможно, и сделать это могли два фактора. Это неспособность женщины к детородной функции либо усилия медицины. Возможности медицины сразу признавались ограниченными. Во-вторых, «долгожительницы» же из числа тех, что добирались до тридцати и более лет составляли соотношение одну на несколько тысяч. От комментариев данных специалисты отказались. С другой стороны – мужчины.
Вначале, в самом деле, их среднестатистический возраст благополучно достигает рубежа 110-120 лет, уже ранее предсказанного и клятвенно геронтологами обещанного. И специалисты совсем было приготовились принимать поздравления, но он ничуть на этом не задерживается, совсем нет, – он со все той же нудной, сонной медлительностью ползет еще выше, без всяких видимых усилий переваливает полуторавековой предел и останавливается лишь, воссоздав своеобразное демографическое равновесие на другом уровне, на отметке 170-190, а у гоменов почти всех 260 лет среднестатистической продолжительности жизни. За этим могло стоять только одно. Естественно, первым делом стали обвинять вмешательство в генетический состав популяции – хотя генетики все вместе в одинаковых выражениях клялись самым дорогим, что никто ничего не трогал. Было предложено искать виновника среди белков, заведующих делением хромосом.
Пока компетентные лица под эгидой ассамблеи наций рука об руку со всемирной организацией здравоохранения, сбиваясь с ног, искали по лабораториям мира скрытых террористов, современность напряженно ждала, чем все кончится. Что принято делать в таких случаях, не знал никто.
Никем не предвиденное изменение типа демографического равновесия поначалу походило на катастрофу. Кстати, как раз тогда снова, уже в ином свете, вспомнили о зеленых территориях и идее криоконсервации («…На интрагому теперь смотрели совсем-совсем другими глазами», – говорил сосед). Вдруг сразу и повсеместно возобладало то мнение, что заповедники – это никакой не рассадник, а наоборот – колодцы в будущее.
На способности населения планеты к воспроизводству это отразилось шоком. Вообще, как отмечалось, женская половина все эти перипетии восприняла с замечательным самообладанием – не в пример мужчинам; новую свинью со стороны эволюционного развития они дружно встретили более ранним созреванием. Принято было считать, что исключительная привлекательность молодых женщин в период их искрометного расцвета нес лишь одну главную функцию, и она не менялась на протяжении многих сотен тысячелетий, – привлечение как можно большего числа жизнеспособных мужских половых клеток. Но то, как тот же вопрос работал теперь, целиком вменялось в вину новой реальности. Биология вида делала все, чтобы выжить. Остаться при своих интересах у самца этого вида не было шансов. Хроники событий тут достаточно невнятны.
Другое дело, что ситуация сама по себе плохо укладывалась в рамки общепринятых представлений об онтогенезе и требовала известного самообладания уже от самих исследователей, чтобы взять себя в руки и, наконец, решить, какую разумную стратегию в создавшихся условиях принять было бы лучше всего. И есть ли она вообще, тут какая-то разумная стратегия.
Внешне на клеточном уровне регрессирующее явление выглядело как нарушение стандартного правила скелетных мышц, которым определяется продолжительность жизни организма и тонус его жизнеспособности. Клетка, развиваясь, запасает энергии больше, чем тратит. Здесь же та же механика напоминала сбой, словно нормальная здоровая клетка переставала быть нормальной и здоровой: она теряла некую точку опоры и принималась кидаться в крайности. Сведения были разноречивы, но все сходились в главном.
Рост клетки практически полностью прекращался. Как будто весь организм вдруг разом лишался двигательной активности, а питательные вещества поступали в организм с перебоями. Так как для накопления энергии организмом необходима его активность, при опасном ее недостатке происходит цепная реакция энергетического голодания клеток. Примерно то, что можно было наблюдать в метаболизме женского организма.
В живой развивающейся системе усвоение веществ и энергии преобладает над распадом этих веществ и выделением тепла, а энергетический фонд приобретается. В случае женского организма напротив, процесс катаболизма превосходил анаболизм. В клеточной структуре накапливались разрушения, энергетический фонд истощался, все начинали жить мрачными предчувствиями надвигавшегося конца. Живая структура будто попадала в состояние угнетения патологическим стрессом, что рано или поздно отражалось на его развитии. Застойные явления в клетках приводили к ситуации, словно организм медленно выгорал в состоянии паралича.
По другим сведениям, клетка попросту разрушалась в ходе отравления продуктами собственной жизнедеятельности. Кровь – среда, окружающая клетку. От нее отделяет соединительная ткань. Как следствие бесконтрольного переедания нормальный обмен с окружающей средой нарушается: поверхность клетки и сама клеточная масса растут с разной скоростью. В результате ненормально быстрого увеличения клеточной массы в клетках скапливаются продукты распада.
Удивительно здесь другое. Тот же разрушительный механизм срабатывал в организме женщины, до конца своих дней служившей образцом умеренности.
Живая структура в результате обвального старения тратила половину всей энергии только на то, чтобы восстановить энергетический фонд. О каком-то нормальном функционировании жизненно важных органов и использовании накопленной потенциальной энергии речь не шла. Таким образом, что-то в самом преддверии 19 – не далее 23 лет, практически сразу после появления на свет первого ребенка, соединительная ткань клетки женского организма как по команде увеличивалась в такой мере, что остальное уже было лишь вопросом времени. Через такую преграду обмен в кровь продуктов распада становился невозможен. В свою очередь закрывался доступ к кислороду в крови. Клетка задыхалась. Такое, естественно, наблюдалось и раньше, непонятно только, почему сейчас это происходило так стремительно. Все в конечном счете заканчивалось необратимыми разрушениями генетической структуры клетки, и энтропия лишь доедала еще живой организм, но уже безостановочно падавший в старость.
Сравнения с подвешенным где-то исполинским вселенским топором приходили на ум всем. Теперь было очевидно, что, будучи раз неосторожно сдвинутым с места, топор начинал со свистом неторопливо отсекать все лишнее по принципу общекосмического неусложнения сущего. Говорили насчет видового отбора – как если бы с его точки зрения надобность в женщине отпадала. Функция биовоспроизводства вроде как выполнялась, смена поколений обеспечивалась – зато она, это смена, не обеспечивалась при неслыханно зажившейся мужской популяции.
Именно это положение позднее использовалось женщинами как обвинение, что мужчины своим не имеющим чувства меры и совести геронтогенезом нарушили изначально заданное равновесие демографических сил, и теперь оно почему-то выполнялось в одностороннем порядке. И что нам теперь прикажете делать? – агрессивно и не без смущения осведомлялась сильная половина планеты. Соседу это место нравилось особенно. Суть разночтений предлагалась секцией оппозиции в том ключе, что общая продолжительность жизни всего вида в рамках поколения – величина как бы всегда постоянная, материя крайне тонкая и совсем не приспособленная к резким движениям. Так что, увеличивая продолжительность жизни, мужчины сделали это за их, беззащитных перед произволом, женщин, счет. На что мужчины в свою очередь мрачно огрызались с тем содержанием, что женскому населению не следовало созревать так рано. Все остальное – только закономерный результат, и не надо в женской манере подменять причины и следствия.
Впрочем, что касалось основного контингента женщин, новые испытания не отразились на них никак. Все вместе и каждая в отдельности, как и за тысячелетия до всяких демографических казусов, сосредоточились на общем пожелании успеть самореализовать возможности, пока природа не успела реализовать свои.
Было предложено несколько основных концепций, в какой-то мере объясняющих подоплеку дней, а также чего от них ждать в отдаленном будущем.
Во-первых, биологическая механика с заданными свойствами была в качестве сценария событий заложена еще на стадии ранней эволюции в гены – как реакция на возрастание длительности жизни конкретного животного вида.
В противовес ему прозвучало мнение, сводившееся к тому, что современное общество – система, харизматически пронизанная каналами неких прямых и обратных связей.
Эволюция, конечно, до некоего рубежа всякий раз норовит усложнить структуру популяции, но теперь налицо уникальное положение, когда, невзирая на усложнение внутренних связей, вся популяция на каких-то уровнях вдруг вернулась в зависимость от внешней среды.
Более того, зависимость такая никогда никуда особо и не пропадала. Вряд ли это случайность. Где-то здесь под нами – Последний Порог.
Мы живем в новое время, и мы только в самом начале пути. То, что мы наблюдаем, – лишь видимая часть больших перемен. Метастазы времени не оставляют шансов прошлому и не дают надежды оставить все как есть. Мы должны быть готовы увидеть себя другими глазами. Мы ушли так далеко, что не можем узнать об этом, пока нам не скажут. Видимо, нужно просто перестать бояться выйти за Дверь, которую сами же открыли. Шуму тогда было много, несмотря на разброд умов, всем казалось, что надо немедленно что-то делать и принимать какие-то меры. Какие конкретно меры следует принимать в таких случаях, мнения расходились.
Не обошлось без крайностей. Предлагалось в поисках путей урегулирования создавшейся ситуации закрывать подряд все направления исследований, не касавшихся старения живых организмов, – вроде астрономических и океанологических. Но прямо тогда же некая ассамблея наций, прототип будущих Объединенных Культур железной рукой приостановила разработку программ в области лечения генетических заболеваний и вообще любого беспокойства генотипа. Решение, надо сказать, было достаточно запоздалым, все любопытствующие успели уже всё посмотреть и сложить обратно.
И вот тут на сцену выходят умы пессимистически настроенные. Примечательно, что тем отрезвляющим фактором, моментально остудившим настроения, явился некий психофизиолог едва ли не с двухсотлетним стажем научной деятельности, последователь так называемого направления «ограниченного рационализма» в науке, когда всё становящееся подвергается не столько рассмотрению, сколько осуществляется, и сторонник идей «узко-тропности» – «узкой тропы», что вела от опыта к истине, по которой можно протиснуться далеко не всякому, да и то лишь по одному; стоя уже одной ногой в могиле, он флегматично заметил как-то между делом, что из самых общих соображений насчет теории Маятника, системы, о сути которой никто толком ничего сказать не может, в случае новой ошибки в общем-то ничто не исключало вариант событий, почему бы тем же механизмам геронтогенеза, подчиняясь принципам константности, не занять по отношению к мужчинам альтернативную позицию – с точностью до наоборот.
Официально санкции действовали уже давно, как, например, пожизненное лишение субсидий, если какой-нибудь натурфилософ не находил в себе сил удержать любопытство в рамках дозволенного. Но лишь теперь могли приниматься меры, идущие еще дальше, вплоть до самых суровых. После таких слов проснулись даже находившиеся в коме.
Мораторий на исследования проходил как временная мера, но сохранялся на удивление долго. Всякое хоть сколько-нибудь углубленное изучение генома почти с суеверным ужасом воспринималось как поиск новых неприятностей. Умы, привыкшие мыслить трезво, предлагали не торопить события и обдумать все еще раз. На холодную голову, поднакопив побольше статистического материала.
Подумать тут, в самом деле, было над чем, тем более что все тот же двухсотлетний дедушка, свет альтернативной психофизиологии, снова решил поднять всем настроение, объявив, что во вверенном ему центре обнаружено явление так называемой вторичной активации иммунной системы. Оно сопровождалось некоторым падением интенсивности обмена веществ. Что можно было бы также трактовать как намек на слабое, еще ни к чему пока не обязывающее, но устойчивое сползание в сторону постепенного истощения энергетического фонда. После него всякое развитие и рост клеточной структуры подразумевались невозможными: метаболизм мужского организма как бы переставал быть обратимым процессом. Статистика касалась некоего отдельно взятого региона.
Свет психофизиологии не удержался, чтобы здесь же не заметить: весь период инварианта, в случае реального существования такого эффекта, мог бы занять в законченной версии фазу от ста пятидесяти лет до нескольких тысяч, в зависимости от вероятного сценария привходящих. Возможно, мы не знаем еще чего-то в основных законах, которым подчиняется живая структура, сказал он.
Когда все глядят на дверь, напряженно ожидая больших неприятностей, они скрипят досками и переставляют мебель. Умозрительный оттенок соображений, что, собственно, со всем этим знанием делать, ни тогда, ни позже не оставил за собой двойственного впечатления. Подчеркивалось, что все данные носят исключительно предварительный характер, но перед остановившимся взором общественности, не ждавшей уже от научного прогресса ничего хорошего, немедленно встала картина завтрашнего дня человечества. Вот, значит, с одной стороны мальчики, еще задолго до наступления всякой психологической зрелости целыми косяками вымирающие; и вот, стало быть, мир, населенный одними бабушками. Бабушки живут долго, очень долго, их много, их все время становится больше. Они тихо шаркают. Они надсадно кашляют и они нудят, нудят, нудят, нудят… Маятник качнулся лишь слегка, но слабость в ногах отдалась у всех.
Было предложено ничего больше не трогать и оставить, как есть.
Вплоть до дня Последней Тропы. Запрет распространялся на любые частные либо правительственные исследования, чем-то способные затронуть чувствительные нити генеза отдельной клетки, особи или же вида в целом. Тема оставалась непопулярной даже на уровне чисто теоретических изысканий. Спекуляции не приветствовались.
Закрылись все направления исследований, не касавшихся старения живых организмов, включая астрономические и океанографические. Это была последняя страница истории Человека скучающего, называвшего себя Человеком дважды разумным.
Во всей этой истории интересен урок, обобщенный опытом дней, и он хорошо смотрелся на закате дня всего вида. Тогда негласно остановились на мнении, что во избежание дальнейшей демагогии более других приближенным к истинному положению вещей нужно считать следующее:
На определенном уровне усложнения эволюционной структуры эволюция больше не подчиняется закону неусложнения сущего.
Что-то с нашим приходом всегда меняется, изменилось что-то и здесь. Бесшумно, холодно, равнодушно – пришли в движение мертвые механизмы, и никакие силы не могли их остановить, пока они не остановились сами. Надолго ли – не мог сказать никто, но все склонились к мнению, что если механизм не изучен и даже не различим, то не нужно его пока хотя бы ломать. Меморандум конфликта ни к чему не призывал, он лишь предлагал переосмыслить ценности тысячелетий. Конечно, это была попытка построить здравый смысл там, где его не было.
О любви вспоминают, когда не хватает воображения. Неизвестно, кто это сказал, но жестокая в самой своей сути максима стала исходным кодом Культуры, твердо намеренной выжить. Когда начинают выживать, даже любовь к себе перестает быть практичной. Любовь не есть свойство сурового климата нашей эпохи, с мужественным вздохом заключал свой меморандум здравый смысл времени Больших Сомнений. Оставим ее другим эпохам. Не таким грубым, не таким жестким, как наша, – более неторопливым, с более мягким климатом, более тонким, более нежным, более женственным…
С тех пор, как настоящее перестало быть женоподобным, многое в завтрашнем перестало быть обыденным и понятным. Здесь нет ничего принципиально нового, подчеркивалось там же. Культура ведь и раньше вся, сколько ее ни было, во всех своих проявлениях строилась исключительно лучшими из мужчин и на лучших мужских плечах.
Циничный подтекст Сдвига трактовался сторонними наблюдателями без жалости: миллионы лет назад где-то в неогене пути гоминоидов и людей разошлись, чтобы никогда больше не пересечься вновь. «Так с чего вообще кто-то взял, что эволюция когда-либо демонстрирует здравый смысл?»
Примитивное больное прошлое еще не умерло в нас. Оно далеко еще не мертво. Всякий раз, как только что-то заставляет нас перестать быть сдержанным, а мысль заменяется действием, которое рвется подменить собой мысль, – тогда мы видим его возвращение.
Но именно нашему миру грозит упасть в другую крайность – ограничить себя и то, ради чего мы живем, умными мыслями. Они у нас уже подменяют поступок.
В нашем избалованном, зациклившимся на простой идее чистоты мире одна голая мысль стала таким необратимым оружием, что достаточно лишь ее существования в природе – необходимости в самом поступке уже нет.
Нам понадобилось не так уж много времени, говорил сосед, чтобы мозг начал создавать новые отделы. Но нашего оптимизма не хватит, если мы будем полагаться только на осторожность. Серьезная проблема сегодня – не как искать общий язык, а зачем он мог бы быть нужен. Мы будем слишком разными. И мы должны быть слишком далеко. История тысячелетий никогда не была однородной. К перехлестам магнитного поля Конгони способна противостоять электрическая активность нервных клеток лишь нашего организма, и это не случайно. Зависимость от природы и навязанных условий ставили между сильным и слабым, умным и хитрым, свободным и больным – между будущим и настоящим разграничения, которым было трудно помочь. Но лишь теперь они стали приобретать черты Непреодолимой Пропасти. Никогда прежде среда не претерпевала таких изменений и не усваивала признаков выразительнее, чем эти. Характернее, чем расовые, подвижнее, чем наследственные, они предопределили весь масштаб последствий, которые открылись перед прояснившимся взором звездного человечества… Послушать соседа, так всем замечательным, что имелось в нас сегодня, мы обязаны исключительно инфекции тех дней. Что бы где бы ни случилось – у него всегда все к лучшему. Лишь в тени наставников, бесконечно мудрых и внимательных, закаленных собственными ошибками и опасностью, возможным оказалось усвоить понятия добра и зла и что нет ничего более абстрактнее этих понятий. И это решило всё.
Все это, конечно, хорошо и весьма поучительно, но сосед ни в чем меня не убедил. В таком ракурсе и в таком видении сути мы не далеко успели уйти от коллектива простейших.
Тогда было слишком грязно, и человек заведомо не мог там выжить. В известном смысле, человека тогда вообще еще не было. Был замысел. Вне навязанных условий никто не мог удовлетворить минимальной нужды. В паническом ужасе перед одиночеством каждый в меру своих способностей подражать соответствовал требованиям. Но нам-то все это неинтересно. Настолько, что мы плохо понимаем, о чем речь. Кто-то давно сказал, что знания не могут отменить человеческой природы. Это так. Но знания впервые дают то, что незнание дать не может: умение ставить правильные вопросы. И это решает все. В том числе, и судьбу человеческой природы.
У меня между делом появлялось такое чувство, что сосед не очень-то и хотел меня в чем-то убедить. И вся эта притча – лишь вступление. Мне все казалось, что он знал больше, чем говорил. Где-то на краю сознания я допускал даже, что мой последний радиовызов каким-то чудом смог пробиться к сознанию экспертной комиссии, – правда, не совсем так, как я ждал. И тогда, может быть, я правильно делал, что держал язык за зубами.
Человек карабкается, везде и всегда, все время куда-то наверх, и там, куда он карабкается, для человеческой природы остается совсем немного места. И никто до сих пор не может сказать, так ли уж это хорошо.
Говорят, человек – иерархическое животное. Вот вопрос. Сумел бы он пройти весь тот путь, который прошел, и подняться к звездам, не будь он животным иерархическим?
Последующая диспозиция мало располагала к философии: время изменялось. Оно перестало быть узнаваемым и понятным. Нам, кому интрагому приходятся прямыми предками, больше близки другие материи.