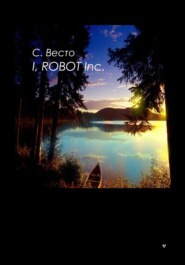По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сумерки эндемиков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1
На полянку перед моим коттеджем, и прямо под мои заспанные глаза, но еще как бы держась в тени, снова приперся ухолов, матерая особь эрасмиков. На настоящий момент подотряд эрасмотазовых, можно сказать, до какой-то степени процветал здесь, ставя в тупик экспертов. Ухолов чем-то напоминал то ли дерево, то ли рослого горбатого двуногого лося с шапкой крепких рогов.
Этот ходячий ужас успел в свое время устроить настоящую панику в среде специалистов своей способностью использовать солнечную энергию для развития отдельных частей и органов. Ухолов был настолько вынослив и непробиваемо дремуч, что мог жить в горах на диком холоде на сумасшедшей высоте, где не росло ничего, кроме содержания углекислоты. Именно поэтому, впрочем, там никто ему не мешал, и на всей суше это был едва ли не единственный случай адаптации, за судьбу которого, по крайне мере, на ближайшее будущее, можно было не беспокоиться: согласно последним данным посезонного анализа численность эрасмиков оставалась прежней. Удивительно, как такой теплолюбивый организм переносил гипоксию у себя в горах. Вместе с тем, в сердитом виде эрасмик сам по себе мог быть опасен и быстр, а стая из нескольких особей объединенными усилиями могла противостоять даже непревзойденному аппетиту парапитека. Правда, эрасмики редко объединялись в стаи.
Нынешним экземпляром я только на днях был уже единожды посещаем, тогда он тоже молча шуршал травой, маячил перед домом, ненадолго застревая на одном месте, и я глазом не успел моргнуть, как обстановка, в исходном виде мирная и изучающая, перешла к до крайности взрывоопасной. Эрасмик угнетенно таращился мне на ступеньку крылечка, тяжело дыша, складывая безразмерные уши дельтапланом, угрожающе втягивая голову в плечи и пригибаясь к земле с явным намерением встретить стену головой. К счастью, я вовремя сообразил, что ему мешало жить. О нет, вскричал я и побежал сдвигать стекло, пока он не разнес мне половину коттеджа и не убился сам. В часы наивысшей остаточной радиации я держал внешние стены своего ти-пи открытыми, и сквознякам было где побродить.
Сегодня эрасмик выглядел заметно спокойнее. Не торопясь обострять ситуацию, он скромно торчал у меня на тенистой полянке, с достоинством ожидая появления в дверях соперника. Сколько он мог так стоять, флегматично пялясь и встряхиваясь, я выяснять не стал.
Сегодня по программе у меня было предаваться унынию и коротать очередной выходной, томясь от вынужденного безделья. Ожидалось, оба нестационарных спутника почти весь день будут висеть на орбите над душой, и передвижения ни одного вездехода не смогут остаться не замеченными. Конечно, это, не означало сразу, что такие передвижения начнут тут же замечать и отслеживать, но при необходимости выполнить нужные операции задним числом было можно. Меня это не устраивало.
База исследований Миссии пока оставалась далека от понятия зажиточности. Стоял даже вертолет, но все знали, что получить к нему доступ было реально не иначе как с кровью вырванным разрешением наперевес, продав свое тело и все остальное в рабство на несколько перевоплощений вперед и только перешагнув через трупы ближайших конкурентов, – обычная история на землях любой Независимой Культуры. Так что всем прочим рядовым исследователям приходилось рассчитывать на свои тренированные мышцы. И, как предел ожиданий, на стандартный поисковый глайдер. На болотах, а также в зонах повышенной вулканической активности, без него делать было нечего. Совсем другое дело – океанологическое отделение Миссии.
Вот у них этого добра было столько, что враждебность по отношению к соленой воде со стороны всех директорий стала общим местом. Они держали себя, как любимое дитя в окружении медленно умирающих. О том, как жили они, стеснялась вспоминать даже отчетная ведомость. Эти предприимчивые всегда хорошо загорелые и неприятно жизнерадостные особи мало того что непринужденно перехватывали последний кусок хлеба, у них еще хватало наглости составлять сметы, от которых терялась даже комиссия экспертов. Где-то еще на заре периода Освоения, в пору административной безнаказанности каким-то залетным экспертом в полузастольном настроении была однажды безответственно обронена фраза о приоритете океанологических исследований – и теперь половина биологической Миссии должна была бегать на радиовызов начальства по поводу каждого носового платка. И это при том, что, как сообщал один путеводитель, акватория Конгони – «официально наихудшее место обитаемых миров, которое вы могли выбрать поплавать с аквалангом».
Все сходились во мнении, что такое положение не может продолжаться бесконечно. Как написал на своей двери один аспирант, «ты сможешь забрать справочник, только выковыряв его из моих холодных, мертвых, негнущихся пальцев». Даже среди наблюдающих экспертов есть трезвые умы, понимающие, что на одной воде далеко не уедешь.
Компьютерные архивы строились на грибах – их соединяли электродами на носитель с главной загрузочной записью. Мицелий был широко известен как непревзойденный коммуникатор: в систему связи им включались не только ему подобные, но и бактерии, вся доступная корневая система и растения. Каждый элемент работал по принципу прямых-обратных связей нейронных цепей, все выполняли лишь две главные функции: сигнала связи и памяти. Когда грибов не было, их заменяли органеллами и всем, что только в принципе было способно имитировать мицелий.
По таким вот самопроизвольным выходным и по вечерам я, как правило, бездельничал, предаваясь унынию, иногда созерцательному и тихому, иногда самоироничному; временами я безысходно пялился на звезды, не двигаясь часами, либо просто валялся мешком в темном углу, с мертвым остервенением отсыпаясь сразу на несколько дней вперед, просыпаясь только, чтобы сменить бестолковому головному сенсору программу внешнего предела на темное время суток; в такие моменты я лежал, не в состоянии предсказать текущий день недели и была ли на самом деле задействована защита периферии или же то было только осуществление во сне насущного желания и нет ли уже в доме кого-то из посторонних. В особенно теплые дни, как сегодня, я просто грелся под солнцем. Я знал, что это пройдет. Обычно это проходило. Вот, скажем, иголка. Никто не говорил, что будет легко. Можно каждый провал оправдывать стечением неблагоприятных обстоятельств. Можно этого не делать, взять себя в руки, сделать над собой усилие и пойти постоять под душем, смыть настоенный пот и остыть.
Уже через пять минут стояния под водой мне пришло в голову, что радиус перемещений парапитека напоминал тактику «быстрого реагирования» ассоциаций прибрежных речных водорослей. Я даже перестал подставлять лицо воде, боясь, что догадка исчезнет, оказавшись новым призраком. Водоросли, индифферентные, казалось, ко всему на свете, в период сезонных изменений частоты излучения светила вели себя непредсказуемо. Они словно умнели на глазах. Водоросли словно знали, где нужно быть, когда этого не знал еще никто. Именно так вел себя питек. Если заурядная подчиненность популяции цикличному изменению внешней среды окажется общим правилом, я больше не буду метаться в поисках предположений и висящих над лесом мошек. Я смогу строить программу поведения. Делать прогнозы. Это стоило проверить. И это могло дорого обойтись всей программе исследований.
На этом месте я открыл глаза, полоща рот, и еще успел заметить сквозь бившие со всех сторон брызги, как за полупрозрачной спектральной ширмой меркнет на секунду в полутемной ванной слабая подсветка и тут же загорается вновь, чуть тусклее. Закрыв глаза, я постоял, подставляя лицо воде, ожидая, не придет ли в голову чего-нибудь еще, но ничего не приходило. Подсветка вела так себя уже не первый раз, это означало только одно: рабочая программа периферийной защиты делала попытку переключиться с одного блока питания на другой. Не преуспев, через полминуты она сделает повторную попытку и вернется в исходное положение, восстановив режим освещения. Либо же нет, не вернется, и тогда придется выбираться, шлепать наружу и переключать вручную. С другой стороны, не из чего не следовало, что перемещения питека не являлись обычным совпадением. Не говоря уже о том, что набивший оскомину феномен терпеть не мог открытой воды. Мне теперь казалось, что я начинал понимать, как эта химера без всякой помощи механизмов умудрялась сдвигать такие большие камни.
Мы видим лес и не видим отдельных деревьев. Глядя на них с высоты своего опыта, далеко не всегда можно с твердостью поручиться, что это действительно лес, а не, скажем, мегапопулянт-плазмодий, сосредоточенно мигрирующий куда-то по своим делам и чужим головам. На следующее утро могло оказаться, что псевдорастительный покров-сообщество неслышно отцвело между делом куда-то в неизвестном направлении. Голый лес стоит, словно так задумано от основания мира, и ты стоишь тоже, разводя в стороны руками. Потом начинается самое интересное. Когда с большим трудом воссозданная таксономия идет на сырье, это ставит упрек не твоему будущему, а будущему того мира, что лежит вокруг. Но дело тем обычно не ограничивалось. Так как сразу вслед за свалившим верхним растительным покровом менялась не только влажность грунта, содержание солей, организация других растений с корневой системой и потребление света, но и наступали самые серьезные климатические изменения. Сквозило так, что перед лобовым стеклом пролетали деревья. И возникал естественный вопрос.
Если мы не в состоянии достаточно уверенно делать прогноз развития даже отдельной части, то как можно судить будущее биологического мира в целом? И вообще, как понравилось спрашивать моему соседу, какое право вы имеете быть печальным, не зная, куда мы падаем?
За ширмой в жилом отсеке что-то происходило. По лицу бежала вода, и я не сразу понял, что. Полоща рот, я смотрел сквозь мутное стекло, вода хлестала, и я убавил напор. В душевой кто-то стоял. Неопределенные, двусмысленные очертания, что начинались и тянулись за забрызганной ширмой черного стекла, были как сюжет пережитого ночного сна: ты знаешь, что что-то не так, но ничего не делаешь, ожидая, когда течение сна тебя смоет. Очертания стояли, и я стоял тоже. Потом неясный силуэт сдвинулся с места и медленно стал тянуться через весь отсек, осваивая его частями, со многими предосторожностями: это всегда разумно делать в пределах всякой чужой территории. Так надвигаются маленькие неприятности, когда большие заняты делом. Тени напоминали о ярком солнечном утре, что стояло за порогом, о невезении, что преследовало, как неудачное расположение звезд. О неисправности периферии они напоминали тоже. Это не могло быть игрой света. Я перестал полоскать рот.
Выглядело так, словно под крышей коттеджа находился кто-то лишний, который сам хорошо понимал, насколько он тут лишний. Сдвинув стекло ширмы, я выглянул в щель и с некоторым удивлением обнаружил прямо по курсу пару особей полосатого крабчатого ямеса в полный рост, прославленных своей осторожностью и наглостью. Их звали так за манеру передвигаться боком, обследуя по пути все, что представляло интерес. Каждый был размером с хорошего гуся, и оба недоверчиво нюхали воздух, готовые при первых же признаках надвигающейся угрозы вернуться на исходные рубежи. Они одинаковыми движениями теснились, вперевалку заглядывая под всё, что лежало. Комната со снятыми окнами была полна света и сквозняков. Всё недвусмысленным образом говорило за то, что защита периферии, перетрудившись за ночь, ушла отдыхать. И это могло кончиться совсем неприятно. Вот ведь паразиты. За все время моего пребывания тут ямесов вживую мне удавалось видеть только два раза, и оба раза у себя в ванной.
Я выбрал, не спуская глаз, на ощупь мочалку побольше, помял в руке под водой, чтобы дошла, вместе с тем стараясь не тянуть и не опоздать, я уже понял, на что они нацеливались. Мышкующий тандем дружно, как застигнутые врасплох насмерть перепуганные куры, вылетел на свежий воздух беспорядочными растрепанными комьями, разбрасывая кругом себя фрагменты обстановки и опрокидываясь на всех поворотах. Больших крабчатых ямесов я не любил даже заочно. После них оставалась тонкая невыносимо колкая шерсть со специфической структурой строения. Рассказывали, попав в дыхательные пути хищника, такая шерсть могла наделать массу бед.
На полу валялись копии печатных раритетов. Даже реликт соседа, череп «Хомо кто-то», тоже лежал на полу, отполированный временем и реально откопанный где-то на далекой прародине – нашей исходной планете, который я выиграл у того в партию го. Пейте из него земляничный мусс, посоветовал сосед. Переживете всех злых духов.
Вытираясь полотенцем, я прошлепал по полу, стараясь смотреть под ноги и вспоминая, куда дел карандаш. Я глядел на пленки и уже чувствовал, что угадал. Питек в самом деле повторял миграции водорослей, и это могло означать только одно. Я уже знал, где он будет следующим утром.
Отнеся полотенце, я переключил программу защиты периферии, потом решил сделать влажную уборку. Снаружи возле полянки, покойно сложив перед собой лапки и оседлав проросший грибами сук, снова тихо сидел, глядя на меня, шаронос. Вот заразы, подумал я, засовывая веник в ведерко с водой. Ведь только же помылся.
Залитая солнцем полянка исходила прохладными утренними запахами. В траве за проемами снятых окон в тени тонкими голосами звенели, готовясь к жаре, вьюны. Добросовестно проделав влажную уборку, я снова принял душ, потом, не вытираясь, встал в дверях со стаканом в руке, привалясь плечом к косяку.
Я стоял и смотрел, как беспечный ухолов-эрасмик с хрустом вламывается в мертвые сучья висячих трав, покидая меня и пределы периметра под защитой, прокладывая себе путь там, где никто кроме него еще не ходил и, надо думать, ходить не станет. Невидимый отсюда ухолов, удаляясь, тряс ветвями, со стуком роняя на землю перезревшие плоды, цепкие коконы сыпались за ним, сгоняя с насиженных мест мотыль и пугая прилипшие к грунту спороносы. В последние дни что-то происходило, то ли во мне, то ли рядом со мной, мне не хватало темноты ночью и света днем; иногда мне казалось, что я стал терять что-то из прежней своей созерцательности. Я заметил, что во мне прибавилось самомнения и неприязни; проклятое время распоряжалось мной, даже когда я спал. Я снова вспомнил последний разговор с соседом проливным вечером, он говорил об амнезии детства и ее удивительной схожести с беспамятством детства цивилизации: о странной способности современного человека не держать в памяти практически ничего, что хоть как-то касалось периода истории до того порога, за которым начиналось наше время – утреннее, синее, теплое и умытое. Детство человечества мертво. Оно похоронено и давно забыто. Детство человечества, по его словам, так же, как и раннее детство отдельного человека, покрывается непроницаемым спасительным туманом амнезии, и это, говорил он, закономерно, это хорошо. Взрослый человек, за исключением редких бессвязных обрывков, без посторонней помощи не в состоянии вспомнить первые несколько ключевых лет своей жизни. И взрослеющее человечество преодолевает ту же черту, где открываются совсем другие виды и за которой остается переход в иное состояние. И совсем другое измерение диктует совсем другие правила. Все, что было до, очень незаметно тонет в беспамятстве времени. По его мнению, это единственное, что свидетельствует в пользу пресловутого прогресса. Человечество еще очень молодо. Все еще только начинается. Вообще, я много занимательного смог для себя почерпнуть из бесед с ним, раньше я даже не задумывался, что все обстояло даже хуже, чем можно было себе представить.
Кто-то раньше заметил, как мимо нашего, обычно такого цепкого, внимания уж очень устойчиво, просто и без усилий с нашей стороны, проскальзывает эпоха средневековья, – вся целиком. Она без остатка уходит в колодец небытия, и глубина этого колодца настораживает.
Удивительное дело, теперь мало кто даже знает, что эпоха Темных Веков вообще существовала. Вопрос, заслуживает ли такое положение вещей академического недоумения – или пришло время видеть в нем категорию симптомов? Вот исходная диспозиция.
Нездоровое сознание, вся вселенская грязь, нечистоты и мерзость, больная, мрачная, ликующая вонь первичных отложений, все инстинкты, все рефлексы раннего нового средневековья остались словно бы ниже порога нашего брезгливого сознания. Перед вами – заросший пруд. Старый, неподвижный и чужой. И вы не плещетесь в нем не потому что боитесь плавать, а потому что попросту его не видите. Сосед склонен был усматривать в том один механизм. Своего рода естественную защитную реакцию повзрослевшей, наконец, цивилизации. Мы оттолкнули шестом чужой берег нечистот истории и отправились в свободное плавание.
Да перестаньте, возразил я, обычная история. Так было всегда. Зачем плескаться в старом гнилом пруду, когда времени не хватает даже просто осмотреться вокруг. Вот вы здесь уже сколько времени? А вы можете сказать, к какому виду относится ухолов и вообще что он такое? К тому же наследственное умение напрочь забывать, что происходило там когда-то с кем-то где-то давным-давно по никому неизвестному сейчас толком поводу, – исключительно счастливое свойство лишь наше, если вы говорите об отвращении к Истории вообще. Наверняка, если хорошо поискать, где-нибудь еще можно найти остатки культур, всем сознанием и всеми корнями сидящие в Прошлом, для которых смысл жизни – в заботливом перебирании крупиц того, что следует давно забыть. Я подумал, что это просто такая присущая особенность организма и что опять он свел все к своей натершей уши системе ценностей. Если заниматься одним только чужим, темным, огромным Прошлым, оно рано или поздно съест. Человек сегодня предпочитает заниматься крайне не простым и весьма любопытным будущим. С другой стороны, я вынужден был признать, что вот так с ходу не мог сразу припомнить из знакомых никого, кого бы интересовало подряд всё и кто бы к тому же занимался еще неквантовым разделом исторических процессов. Это просто было никому неинтересно.
В том-то все и дело, отозвался сосед сухо. Об этом и речь. Вот вы спорите, совершенно не понимая сути того, о чем спорите и что сами подтверждаете то, с чем спорите, – лишь бы поспорить.
Я счел нужным как можно более обольстительно и извиняюще улыбнуться, откидываясь на спинку. С настоящего времени вся ответственность за историю лежала на нем. Я установил локоть на подлокотник, удобно подпирая ладонью щеку. Пусть теперь спорит сам с собой. Временами я бывал убежден, что никакой сосед не экспериментальный философ. Найдя во мне благодатную почву, он просто валял бревно. Поймать его была проблема. Это был подвиг, достойный богов. Вот вы сами-то сильно осведомлены в структурной истории, спросил сосед, хоть сколько-нибудь отдаленной от этого вот стакана?
Это был запрещенный прием. Пепел прошлых миров меня ничуть не трогал не из каких-то там идеологических соображений, а в силу чисто органического неприятия всего, присущие функции статичности чего сами по себе физически не способны изменяться. Тут не я один такой, я сам же и сказал по неосторожности об этом соседу. Это запрещенный прием, объявил я, поднимая на собеседника указательный палец и прицеливаясь. Делать мне больше нечего.
В том-то все и дело, снова произнес сосед с горечью. Об этом я и рассказываю. И всегда мы так. Симптом времени. Стоит только чуть-чуть потянуть откуда-то со стороны горелым ветерком Давно Ушедшего, как наше подсознание сразу же настораживается, ничего не беря на веру, чувствуя неясную угрозу в перемене погоды, где-то в дремучих глубинах совести вздрагивают пережитки, непоправимо и в незапамятные времена уже вроде бы отмершие, и мы немедленно вскидываем что попало наизготовку и берем под прицел. Вот, скажем, отбор личного информационного фонда каждого из нас отмечен неповторимым принципом избирательности. И что же? Информаторий Культур может подтвердить то же самое. Не существует ничего, что касается исследований истории. Вообще.
По данным Общей Позиционной Системы даже специалистами любая информация, не затрагивающая напрямую разделов истории Освоения, востребуется в последнюю очередь. Специалистами, друг мой… Мы теряем некую часть самих себя.
Не стоит спорить, возможно, и в самом деле реальная стоимость ее не намного выше, чем у прошлогодней шкуры, сброшенной змеей. Речь о другом. Кое-кто на этом основании успел дойти до мысли, что совсем скоро Культурам действительно будет не под силу вспомнить, что там – за Завесой Молчания и Ночи. Но есть еще умы, настроенные скептически. И они занимаются своим любимым делом: проводят аналогии.
Берется аспект ранней физиологии. Вам тоже рекомендуется внимательно следить за собственной инерцией мышления. Чем вот занимается, скажем, на взгляд нормального взрослого ребенок в отсутствие надлежащего присмотра? Изучением полового прибора, ответит он, чем еще. Вначале своего, потом того, что радикально его не напоминает.
Потом берется старое доброе Средневековье. То было время, говорят нам, когда половые отправления как таковые полностью отделялись от остальной физиологии. И даже ведь не просто отделялись – их выделяли, вокруг них не стихал ажиотаж, с живейшим интересом сгущались краски, водились хороводы и пели долгие, запоминающиеся мелодии. Потом это проходит. Для дальнейшего понимания нужно усвоить одну простую вещь. Вокруг именно тех отправлений физиологии вращалась практически вся культура, вся жизнь, вся цивилизация.
А сегодня стоит только кого-нибудь попросить завершить простенькую транспозицию, которая напрашивается, то всякий тут же начинает смертельно скучать и выглядеть утюгом.
И здесь, на мой взгляд, симптом. В том и состоит нормальная физиология исторического процесса. Естественный пережиток, вроде сосредоточенной игрушки мальчишек управлять процессом мочеиспускания. Нам предстоит потерять некую часть самих себя. Мы этого не любим помнить, однако всякий раз, когда нам что-то вдруг об этом напоминает, мы непроизвольно переживаем приступ недоумения пополам с ощущением горечи: как если бы перед нами открыто начинали вывешивать наши собственные испачканные ползунки.
2
Интересная аналогия, сказал я. Я не знал, что еще сказать. Я снова подумал, что сосед рассказывал все это не просто так. Он словно пытался что-то донести.
Вот симптом забывания. И он всегда один и тот же. Под покровом детской амнезии сохраняется все, что имело место когда-то. То же, что проскальзывает на поверхность сознания, не имеет ничего общего с реальностью. Его попросту редактируют вымышленные события. Темные Века даже не абстракция. У всех опрошенных период Позднего нового средневековья упорно ассоциировался с героическим освоением верхних слоев атмосферы планеты и нездоровой средой обитания. Лишь единицы смогли сказать, что в то время существовали орбитальные станции.
И по-вашему, отсюда следует, что человек как вид сегодня стал забывчевее, сказал я. По-моему, вы сгущаете. Не знаю, вокруг чего там вращалась цивилизация, но любой ребенок вам, не задумываясь, на пальцах покажет несколько ракурсов, с позиций которых будет доказано, что это как минимум спорное умозаключение.
Вот этого не надо было говорить, но уж больно уверенно чувствовал себя сосед. Временами его голос здорово донимал этой своей уверенностью. Когда сосед принимался отделять главное от наносного, он начинал напоминать металлорежущий агрегат. Он не сдавался никогда. Он был уверен во всем. Временами это начинало заводить.
Сосед медленно и с удовлетворением откинулся на спинку, собирая кончики пальцев перед собой вместе. Это высказывание мы отнесем на счет нездорового пессимизма, заявил он. Вы даже не подозреваете, насколько жестоки в своем пессимизме.
Далее я принужден был выслушать целый экскурс на тему что такое трезвый взгляд, холодная голова, умеренный, здоровый оптимизм и его роль в истории. Много ты понимаешь в пессимизме, подумал я, несколько сбитый с толку поворотом сюжета. У меня перед глазами все еще висела картина с одинаковыми телами, беспорядочно лежащими в камнях и траве до самых опушек черного леса. Все-таки сосед умел уходить из-под любого удара, оставляя после себя сразу несколько теней и выворачивая наизнанку любое свойство явлений, этого не отнимешь. Всякая Версия исторических событий, по его компетентному мнению, всегда определяется лишь одним простым набором человеческих голов. Назовем их памятью цивилизаций. Причем данный набор строго ограничен и всегда взаимозадан единой текущей функцией.
Комбинируете обе переменные, набор упомянутых гениев и их склад, – и получаете Новую Версию Истории. Это именно то, чем занималась история раньше.
Конечное число голов в изложении соседа варьировалось от одного этапа к другому. Все поголовье у него в целом и частном сводилось к: головы торопливые, головы холодные, головы скептические и головы пессимистически настроенные к чему-то конкретно одному либо, чаще, совершенно к чему бы то ни было вообще. Я слушал его без всякой радости, мучительно раздумывая, куда будет разумнее разместиться на ночь на этот раз, под навес на веранду или под крышу у окна. Сосед бывал иногда трудно усвояем со всеми своими информационными вывертами, и сегодня был не самый лучший день моей жизни.
В общем-то, послушать стоило. Я не мог бы сказать, что понял его вполне, но что-то там было, что-то из послесловия. Случайные сумерки на воде, когда их давно нет. Что-то неприятное. Правду делает неприятной готовность к жертве. Не помню, кто это сказал. Сосед не говорил что-то исключительно новое, чего не говорил раньше, но посылки ко всему, что шло дальше, теперь выводил какие-то странные. Я помнил еще время, когда официально было объявлено о наступлении периода «Ознакомительного затишья». В фундаментальных космических исследованиях период потом даже получил название «Стратегии неоперативного вмешательства», когда все вдруг стали демонстрировать редкую учтивость по отношению ко всему, что способно повлечь хоть какие-то отдаленные последствия.
Тут было что-то новое. Целый ряд концепций, казавшихся ранее исключительно смелыми, жесткими, громкими и историческими, прошли в жизнь как-то уж совсем буднично, по-деловому, без этих трагических недомолвок и шумных, на полмира, праздничных пожеланий дальнейших успехов. Ситуация еще позднее напоминала то, как если бы кто-то в окопе дальнего рубежа, пользуясь коротким затишьем канонад, надвинув на самые глаза козырек испачканной в земле каски, низко согнувшись, щуря мужественный взгляд и крепко сжимая челюсти как бы в ожидании того, что могло произойти в любую минуту, был готов прямо сейчас, в едином рывке, вот так же сжав зубы, уйти вслед за тем, кто уже ушел и кто сейчас там, один, далекий, беспристрастный и открытый всем космическим ветрам; и вот он осторожно расправляет напряженные плечи, непослушной ладонью утирая пересохшие потрескавшиеся губы, а то, смертельно опасное, чего он ждал, к чему готовился и шел всю жизнь, было занято чем-то другим, оно где-то заблудилось; и он расслабляет мышцы лица и переводит дыхание, с обшлагов каски стекают струйки песка, и кто-то рядом тоже поднимает голову, и в прищуренном взгляде тот же холод и то же недоверие, кто-то откашливается чужим голосом, он тоже не сводит взгляда с того, ради кого они все здесь молчали, готовые один за другим уйти вперед; а поверх камней дальше, там, где тот, далекий и открытый всем ветрам, полный глубоких судьбоносных раздумий, вместо того чтобы заниматься делом, сидит, опершись рукой о чужой непроницаемый горизонт, собирает песок в горсть, поднимает, пропускает сквозь пальцы и рассеянно смотрит, как он оставляет длинный пыльный след… Космос оказался терпимым к присутствию человека.
И даже не терпимым – космос, вопреки ожиданиям, оказался невероятно, просто космически к нему равнодушным. Еще не выйдя за порог дверей привычного мира, человек успел нагрести к ногам и награбить к пьедесталу своего любопытства столько, что требовалась некоторая пауза, какой-то период вдумчивого созерцания, чтобы прийти в себя. Привести все в соответствие с устоявшимися представлениями и чувствами. Очень скоро начали говорить о Глубоком Кризисе в концептуальности современного мировоззрения и вообще всякого поступательного развития, когда выяснилось, что даже человеку с его беспрецедентными способностями усваивать и сохранять рабочий настрой понадобится какое-то время, чтобы в сколько-нибудь приемлемой форме усвоить из этого хотя бы часть. И решить, не ошибся ли он дверью.
Сразу же нашлись расторопные умы, немедленно подсчитавшие, что только на то, что уже есть, понадобилось бы до двадцати тысяч лет лишь на предварительный этап освоения и изучения, не включая даже сюда всё на статусе Независимых Культур.