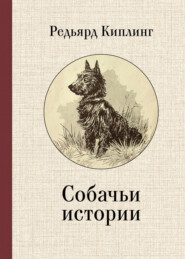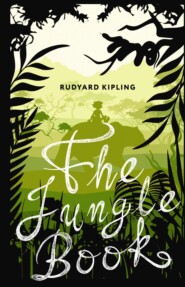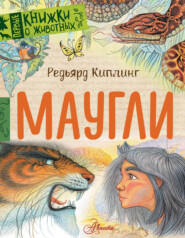По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет погас
Автор
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Внимание, внимание!.. – проговорил Нильгаи.
– Вспомни, какой единственный случай из похождений Нильгаи я никогда не зарисовывал в книгу Нунгапунга, – продолжал Дик, обращаясь к Торпенгоу, который был несколько озадачен последними словами Дика.
Действительно, в этом большом альбоме был один лист чистой белой бумаги, предназначавшийся для рисунка, которого Дик не захотел сделать. Он предназначался для изображения самого выдающегося подвига в жизни Нильгаи, когда тот, еще будучи молодым, позабыв о том, что он и телом и душой принадлежит своей газете, скакал сломя голову с бригадой Бредова, решившейся атаковать артиллерию Канробера, и находящиеся впереди нее двадцать батальонов пехоты, чтобы выручить 24-й германский пехотный полк, дать время решить судьбу Вионвилля и доказать, что кавалерия может атаковать, смять и уничтожить непоколебимую пехоту. И всякий раз, когда Нильгаи начинал раздумывать о том, что его жизнь сложилась неважно, что она могла бы быть лучше, что его доходы могли бы быть значительнее и совесть несравненно чище, он утешал себя мыслью о том, что он скакал с бригадой Бредова к Вионвиллю и участвовал в этом славном деле, и это помогало ему на другой день с легким сердцем участвовать в менее славных битвах.
– Я знаю, о чем вы говорите, – сказал Нильгаи серьезно, – и я весьма благодарен вам за то, что вы выпустили этот случай. Он прав, Троп, он должен идти своим путем.
– Может быть, я жестоко ошибаюсь, но в этом я должен убедиться сам, как должен сам обдумать и выносить каждую мысль, и не смею довериться никому, и это мучает меня больше, чем вы думаете. Мне очень больно, что я не могу уехать, поверьте, но я не могу, вот и все! Я должен делать свое дело и жить своей жизнью, потому что ответственность за то и другое лежит на мне. Только не думай, Торп, что я отношусь к этому легкомысленно или поверхностно. У меня есть и свои спички и своя сера, и я сумею сам устроить себе ад при случае.
После этого наступило неловкое молчание, и, чтобы прервать его, Торпенгоу вдруг спросил:
– А что сказал губернатор Южной Каролины губернатору Северной Каролины?
– Блестящая мысль! Он сказал: «Не пора ли нам выпить?..» Действительно, теперь как раз лучшее время для выпивки. Что вы скажете на это, Дик? – проговорил Нильгаи.
– Ну-с, я облегчил свою душу точно так же, как и ты, милый Бинки, облегчил свой рот от перьев.
Дик ласково потрепал собаку и продолжал:
– Вас засадили в мешок и заставили выбираться из него без всякого повода с вашей стороны, малютка Бинки, и это оскорбило ваши чувства. Но что же делать! Sie volo sie jubeo, stet pro ratione voluntas… Не фыркайте, пожалуйста, на мою латынь, Бинки. Желаю вам спокойной ночи!
И он вышел из комнаты.
– Вот, видите, я говорил вам, что всякая попытка вмешательства в его дела совершенно безнадежна. Он недоволен нами, сердит на нас.
– Нет, он стал бы ругаться со мной, если бы рассердился, я его знаю… И все же не могу понять, в чем тут дело. Его, несомненно, тянет бродяжничать, и вместе с тем он не хочет уехать. Я желаю только, чтобы ему не пришлось уехать тогда, когда он не будет хотеть, – сказал Торпенгоу.
Придя в свою комнату, Дик задал себе вопрос, стоит ли весь мир и все, что в нем есть и что можно узнать и увидеть, одной трехпенсовой монетки, брошенной в Темзу.
– Все это случилось потому только, что я видел море, и я болван, что размышляю об этом, – решил он. – А кроме того, наш медовый месяц может быть посвящен этому путешествию, с некоторыми ограничениями, конечно… Только… только я все же никак не подозревал, что море имеет надо мной такую власть. Я этого не чувствовал в то время, когда Мэзи была со мной. Это эти проклятые песни все наделали. А вот он опять начинает.
Но Нильгаи запел на этот раз только серенаду Джульетте Гаррика, и, прежде чем он успел ее допеть, Дик уже стоял на пороге комнаты Торпенгоу в довольно несовершенном костюме, но веселый, жаждущий выпить с приятелями и совершенно спокойный.
То прежнее настроение его родилось в нем и улеглось вместе с приливом и отливом моря у форта Килинг.
IX
Всю неделю Дик не брался ни за какую работу, а там настало опять воскресенье. Он всегда ждал и боялся этого дня, но с тех пор, как рыжеволосая девушка написала с него этюд, чувство боязни или опасения преобладало даже над желанием.
Оказалось, что Мэзи совершенно пренебрегла его советом поработать над линиями и усовершенствовать свой рисунок. Она увлеклась какой-то нелепой идеей фантастической головки, и Дику большого труда стоило совладать с собой на этот раз.
– Что пользы советовать или наставлять! – заметил он довольно едко.
– Ах, да ведь это же будет картина, настоящая картина! И я знаю, что Ками позволит мне послать ее в салон. Ты ничего не имеешь против, не правда ли?
– Я полагаю, что нет. Но ты не успеешь написать ее к этому времени.
Мэзи слегка смутилась; она почувствовала даже некоторую неловкость.
– Мы поедем во Францию. Я здесь зарисую саму идею картины и разработаю ее уже у Ками.
У Дика замерло сердце, и в этот момент он был близок к чувству отвращения к «королеве, которая не может ошибаться».
«И когда я думал, что успел уже кое-что сделать для нее, убедить ее в необходимости работать серьезно, она снова гоняется за мотыльками, думает, что поймает успех на лету… Просто с ума можно сойти!» Возражать и разубеждать ее не было возможности, так как рыжеволосая все время находилась в мастерской, и Дик ограничился только одними укоризненными взглядами.
– Я очень сожалею, – сказал он, – и мне кажется, что ты делаешь большую ошибку, Мэзи. Но какова же идея этой твоей новой картины?
– Я почерпнула ее из книги.
– Это плохо; из книг не следует заимствовать сюжеты; их надо брать из жизни или из своей души.
– Она взяла эту идею из книги «Город страшной ночи», знаете вы ее? – сказала за ее плечом рыжеволосая.
– Немного. Я был не прав, в этой книге действительно есть картины. Какая же из них овладела ее фантазией?
– Описание меланхолии.
Поднять не в силах два ее крыла,
Опущенные вниз, как у орла,
Ее гордыни царственное бремя.
И далее (Мэзи, налей, душечка, чай!):
Ее чело хранит тоски печать,
У пояса ключи, простой наряд хозяйки
Тяжел, как вылитый из стали,
И груб ее башмак, он должен без устали
Давить все слабое и жалкое вокруг.
В голосе девушки звучал нескрываемый гнев и пренебрежительная лень. Дик поморщился.
– Но ведь эта картина уже написана неким небезызвестным художником, Дюрером, – сказал он, – как это гласит поэма:
Три века с половиной протекли,
С тех пор, как этот своенравный гений…
Ты бы могла с таким же успехом написать по-своему Гамлета – это будет напрасная трата и времени и труда.
– Нет, не будет! – резко и решительно возразила Мэзи, ставя со звоном чашки на стол. – Я напишу ее во что бы то ни стало! Неужели ты не чувствуешь, какая превосходная картина должна выйти из этого?
– Какая к черту может выйти картина, когда нет надлежащей подготовки! У любого дурака может появиться идея. Но надо умение, чтобы выполнить ее, нужна подготовка, убежденность, сознание своей силы, а не погоня за первой попавшейся идеей.
Дик говорил все это сквозь зубы.
– Ты не понимаешь! – сказала Мэзи. – Я убеждена, что я могу написать эту вещь.
Позади снова раздался раздражающий Дика голос рыжеволосой:
– Она работает и день, и ночь,
– Вспомни, какой единственный случай из похождений Нильгаи я никогда не зарисовывал в книгу Нунгапунга, – продолжал Дик, обращаясь к Торпенгоу, который был несколько озадачен последними словами Дика.
Действительно, в этом большом альбоме был один лист чистой белой бумаги, предназначавшийся для рисунка, которого Дик не захотел сделать. Он предназначался для изображения самого выдающегося подвига в жизни Нильгаи, когда тот, еще будучи молодым, позабыв о том, что он и телом и душой принадлежит своей газете, скакал сломя голову с бригадой Бредова, решившейся атаковать артиллерию Канробера, и находящиеся впереди нее двадцать батальонов пехоты, чтобы выручить 24-й германский пехотный полк, дать время решить судьбу Вионвилля и доказать, что кавалерия может атаковать, смять и уничтожить непоколебимую пехоту. И всякий раз, когда Нильгаи начинал раздумывать о том, что его жизнь сложилась неважно, что она могла бы быть лучше, что его доходы могли бы быть значительнее и совесть несравненно чище, он утешал себя мыслью о том, что он скакал с бригадой Бредова к Вионвиллю и участвовал в этом славном деле, и это помогало ему на другой день с легким сердцем участвовать в менее славных битвах.
– Я знаю, о чем вы говорите, – сказал Нильгаи серьезно, – и я весьма благодарен вам за то, что вы выпустили этот случай. Он прав, Троп, он должен идти своим путем.
– Может быть, я жестоко ошибаюсь, но в этом я должен убедиться сам, как должен сам обдумать и выносить каждую мысль, и не смею довериться никому, и это мучает меня больше, чем вы думаете. Мне очень больно, что я не могу уехать, поверьте, но я не могу, вот и все! Я должен делать свое дело и жить своей жизнью, потому что ответственность за то и другое лежит на мне. Только не думай, Торп, что я отношусь к этому легкомысленно или поверхностно. У меня есть и свои спички и своя сера, и я сумею сам устроить себе ад при случае.
После этого наступило неловкое молчание, и, чтобы прервать его, Торпенгоу вдруг спросил:
– А что сказал губернатор Южной Каролины губернатору Северной Каролины?
– Блестящая мысль! Он сказал: «Не пора ли нам выпить?..» Действительно, теперь как раз лучшее время для выпивки. Что вы скажете на это, Дик? – проговорил Нильгаи.
– Ну-с, я облегчил свою душу точно так же, как и ты, милый Бинки, облегчил свой рот от перьев.
Дик ласково потрепал собаку и продолжал:
– Вас засадили в мешок и заставили выбираться из него без всякого повода с вашей стороны, малютка Бинки, и это оскорбило ваши чувства. Но что же делать! Sie volo sie jubeo, stet pro ratione voluntas… Не фыркайте, пожалуйста, на мою латынь, Бинки. Желаю вам спокойной ночи!
И он вышел из комнаты.
– Вот, видите, я говорил вам, что всякая попытка вмешательства в его дела совершенно безнадежна. Он недоволен нами, сердит на нас.
– Нет, он стал бы ругаться со мной, если бы рассердился, я его знаю… И все же не могу понять, в чем тут дело. Его, несомненно, тянет бродяжничать, и вместе с тем он не хочет уехать. Я желаю только, чтобы ему не пришлось уехать тогда, когда он не будет хотеть, – сказал Торпенгоу.
Придя в свою комнату, Дик задал себе вопрос, стоит ли весь мир и все, что в нем есть и что можно узнать и увидеть, одной трехпенсовой монетки, брошенной в Темзу.
– Все это случилось потому только, что я видел море, и я болван, что размышляю об этом, – решил он. – А кроме того, наш медовый месяц может быть посвящен этому путешествию, с некоторыми ограничениями, конечно… Только… только я все же никак не подозревал, что море имеет надо мной такую власть. Я этого не чувствовал в то время, когда Мэзи была со мной. Это эти проклятые песни все наделали. А вот он опять начинает.
Но Нильгаи запел на этот раз только серенаду Джульетте Гаррика, и, прежде чем он успел ее допеть, Дик уже стоял на пороге комнаты Торпенгоу в довольно несовершенном костюме, но веселый, жаждущий выпить с приятелями и совершенно спокойный.
То прежнее настроение его родилось в нем и улеглось вместе с приливом и отливом моря у форта Килинг.
IX
Всю неделю Дик не брался ни за какую работу, а там настало опять воскресенье. Он всегда ждал и боялся этого дня, но с тех пор, как рыжеволосая девушка написала с него этюд, чувство боязни или опасения преобладало даже над желанием.
Оказалось, что Мэзи совершенно пренебрегла его советом поработать над линиями и усовершенствовать свой рисунок. Она увлеклась какой-то нелепой идеей фантастической головки, и Дику большого труда стоило совладать с собой на этот раз.
– Что пользы советовать или наставлять! – заметил он довольно едко.
– Ах, да ведь это же будет картина, настоящая картина! И я знаю, что Ками позволит мне послать ее в салон. Ты ничего не имеешь против, не правда ли?
– Я полагаю, что нет. Но ты не успеешь написать ее к этому времени.
Мэзи слегка смутилась; она почувствовала даже некоторую неловкость.
– Мы поедем во Францию. Я здесь зарисую саму идею картины и разработаю ее уже у Ками.
У Дика замерло сердце, и в этот момент он был близок к чувству отвращения к «королеве, которая не может ошибаться».
«И когда я думал, что успел уже кое-что сделать для нее, убедить ее в необходимости работать серьезно, она снова гоняется за мотыльками, думает, что поймает успех на лету… Просто с ума можно сойти!» Возражать и разубеждать ее не было возможности, так как рыжеволосая все время находилась в мастерской, и Дик ограничился только одними укоризненными взглядами.
– Я очень сожалею, – сказал он, – и мне кажется, что ты делаешь большую ошибку, Мэзи. Но какова же идея этой твоей новой картины?
– Я почерпнула ее из книги.
– Это плохо; из книг не следует заимствовать сюжеты; их надо брать из жизни или из своей души.
– Она взяла эту идею из книги «Город страшной ночи», знаете вы ее? – сказала за ее плечом рыжеволосая.
– Немного. Я был не прав, в этой книге действительно есть картины. Какая же из них овладела ее фантазией?
– Описание меланхолии.
Поднять не в силах два ее крыла,
Опущенные вниз, как у орла,
Ее гордыни царственное бремя.
И далее (Мэзи, налей, душечка, чай!):
Ее чело хранит тоски печать,
У пояса ключи, простой наряд хозяйки
Тяжел, как вылитый из стали,
И груб ее башмак, он должен без устали
Давить все слабое и жалкое вокруг.
В голосе девушки звучал нескрываемый гнев и пренебрежительная лень. Дик поморщился.
– Но ведь эта картина уже написана неким небезызвестным художником, Дюрером, – сказал он, – как это гласит поэма:
Три века с половиной протекли,
С тех пор, как этот своенравный гений…
Ты бы могла с таким же успехом написать по-своему Гамлета – это будет напрасная трата и времени и труда.
– Нет, не будет! – резко и решительно возразила Мэзи, ставя со звоном чашки на стол. – Я напишу ее во что бы то ни стало! Неужели ты не чувствуешь, какая превосходная картина должна выйти из этого?
– Какая к черту может выйти картина, когда нет надлежащей подготовки! У любого дурака может появиться идея. Но надо умение, чтобы выполнить ее, нужна подготовка, убежденность, сознание своей силы, а не погоня за первой попавшейся идеей.
Дик говорил все это сквозь зубы.
– Ты не понимаешь! – сказала Мэзи. – Я убеждена, что я могу написать эту вещь.
Позади снова раздался раздражающий Дика голос рыжеволосой:
– Она работает и день, и ночь,