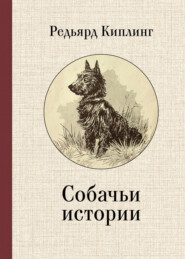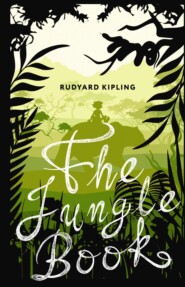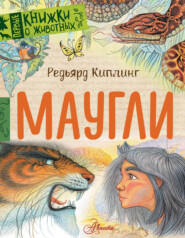По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ким
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, да, тысячи раз! Желал снова иметь прямую спину и не согнутое колено, ловкую руку и проницательный взгляд и все то, чем гордится муж… О прежние дни – чудесные дни моей силы!
– Эта сила – слабость.
– Оказалось, что так, но пятьдесят лет тому назад я доказал бы иное, – возразил старый солдат, всаживая шпоры в худые бока пони.
– Но я знаю реку великого исцеления.
– Я пил воду из Ганга так, что у меня чуть не образовалась водянка. У меня сделался понос, а сил не прибавилось.
– Это не Ганг. Река, которую я знаю, омывает от всякого греха. Тот, кто подымется по ту сторону ее, может быть уверен в освобождении. Я не знаю твоей жизни, но твое лицо – лицо честного и доброго человека. Ты держался своего пути, оставаясь верным, несмотря на все трудности, в Черный год, рассказы о котором вспоминаются мне теперь. Выйди теперь на Срединный путь, который ведет к освобождению. Выслушай Совершенный Закон и не гонись за мечтаниями.
– Говори, старик, – с улыбкой, слегка отдав честь, сказал воин. – В наши годы все болтуны.
Лама присел на корточки под манговым деревом, от колеблющейся тени которого лицо старика казалось как бы шахматной доской. Солдат неподвижно сидел на пони. Ким, убедившись, что вблизи не было змей, улегся среди извилистых корней дерева.
Слышалось наводящее дремоту жужжание маленьких насекомых, освещенных лучами горячего солнца, воркованье голубей и монотонный скрип колодезного ворота. Лама начал говорить медленно и внушительно. Через десять минут старый воин соскользнул со своего пони, чтобы лучше расслышать его, и сел, намотав поводья на руку. Голос ламы стал прерываться – периоды становились длиннее. Ким внимательно следил за серой белкой. Когда исчез маленький клочок меха, плотно прижавшийся к ветке, проповедник и слушатель уже крепко спали. Голова старого офицера с резко очерченными чертами лица покоилась на руке, голова ламы, запрокинутая на ствол дерева, казалась сделанной из пожелтевшей слоновой кости. Голый ребенок, переваливаясь, подошел к спящим, некоторое время пристально смотрел на них и, движимый чувством благоговения, почтительно поклонился ламе. Но ребенок был так мал и толст, что свалился набок, и Ким расхохотался, глядя на барахтавшиеся толстые ножки. Ребенок, испуганный и рассерженный, громко заревел.
– Ай! Ай! – сказал старый воин, вскакивая на ноги. – Что это? Какой приказ?.. Это… ребенок! А мне снилась тревога. Не плачь, маленький, не плачь. Неужели я спал? Вот-то было невежливо!
– Я боюсь! Мне страшно! – орал ребенок.
– Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Ну, какой же ты будешь воин, князек?
– Это что такое? – сказал ребенок, внезапно переставая кричать. – Я никогда не видел таких вещей. Дай их мне.
– Ага! – улыбаясь, проговорил лама, делая петлю из четок и волоча ее по земле:
– Вот тебе горсть миндаля,
Щепотка кардамона;
Вот ужин для тебя
Из риса и лимона.
Ребенок кричал от радости, хватаясь за темные, блестящие бусы.
– Ого! – сказал старый воин. – Откуда у тебя эта песня, у тебя, презирающего здешний мир?
– Я выучил ее в Патанкоте, сидя на приступочке у двери, – застенчиво проговорил лама. – Хорошо быть добрым к детям.
– Насколько я помню, прежде чем на нас нашел сон, ты говорил мне, что брак и деторождение – гасители истинного света, препятствия на Пути. Разве в твоей стране дети падают с небес? А разве на Пути можно петь эти песенки?
– Нет совершенного человека, – серьезно сказал лама, развязывая петлю из четок. – Беги к матери, малютка.
– Послушай его! – сказал старый воин, обращаясь к Киму. – Он стыдится, что порадовал ребенка. В тебе пропал отличный хозяин дома, глава семьи, брат мой. Эй, дитя! – Он бросил ребенку монету. – Лакомства всегда сладки!
Когда маленькая фигурка, подпрыгивая, исчезла в лучах солнца, он прибавил:
– Они вырастают и становятся людьми. Служитель Божий, мне грустно, что я заснул посреди твоей проповеди. Прости меня.
– Мы оба старые люди, – сказал лама. – Вина моя. Я слушал твой рассказ о мире и его безумии, и одна вина повела за собой другую.
– Послушайте его! Какой вред твоим богам от того, что ты поиграл с ребенком? А песенку ты спел очень хорошо. Пойдем дальше, и я спою тебе песню о Никаль-Сейне (Никольсоне) [9 - Полковник Никольсон убит во время мятежа сипаев при осаде Дели.] перед Дели – старинную песню.
И они вышли из тени мангового дерева. Высокий, пронзительный голос раздавался в поле: в горьких сетованиях развивалась история Никаль-Сейна (Никольсона), до сих пор в Пенджабе поется эта песня.
Ким был в восторге. Лама слушал с глубоким интересом.
Он пропел все до конца, отбивая такт тупой стороной сабли на спине пони.
– А теперь мы выходим на большую дорогу, – сказал он, выслушав комплименты Кима. Лама упорно молчал. – Давно уже я не ездил так далеко, но слова твоего мальчика возбудили меня. Смотри, святой человек, – большая дорога, хребет всего Индостана. По большей части, она окаймлена, как здесь, четырьмя рядами тенистых деревьев, на дороге оживленное движение. Когда не было железной дороги, сахибы разъезжали здесь сотнями взад и вперед. Теперь тут ездят только крестьянские повозки. Налево и направо идут дороги для более тяжелых повозок с хлебом, хлопком, лесом, известкой и кожами. Тут можно идти спокойно, потому что через каждые несколько миль есть полицейский пост. Полицейские – воры и вымогатели (я сам имел с ними дело), но, по крайней мере, они не допускают соперников. Тут попадаются люди всех каст и состояний. Взгляни: брамины, банкиры, медники, цирюльники, пилигримы и горшечники – все движутся взад и вперед. Для меня это похоже на реку, из которой меня выбросило на берег, как полено после разлива.
И действительно, Индийская Большая дорога – удивительное зрелище. Она идет прямо на протяжении тысячи пятьсот миль и служит главным торговым путем всей Индии. Это такой жизненный поток, какого не существует нигде более на свете. Они смотрели в даль, окаймленную зелеными арками, с пятнами тени на земле; смотрели на ширь белой дороги, усеянной медленно шедшими людьми, и на домик в две комнаты, где помещался полицейский пост.
– Кто здесь противозаконно носит оружие? – со смехом крикнул констебль, увидев саблю старика. – Разве для истребления преступников недостаточно полиции?
– Я и купил ее для полицейской службы, – ответил старик. – Все ли благополучно в Индостане?
– Все благополучно, сахиб.
– Я, видишь ли, похож на старую черепаху, которая высовывает голову и снова втягивает ее. Да, вот дорога в Индостан. Все идут этим путем.
– Сын свиньи, разве мягкая дорога предназначена для того, чтобы ты мог чесать о нее свою спину? Отец всех бесстыдных дочерей и муж десяти тысяч лишенных добродетели, твоя мать была предана дьяволу под влиянием своей матери, у твоих теток в продолжение семи поколений не было носов. Твоя сестра… Какое безумие филина подсказало тебе везти свои повозки по этой дороге? Сломанное колесо! Так вот тебе еще и проломленная голова и сложи их вместе, как тебе угодно.
Голос и зловещие удары хлыста вылетали, казалось, из столба пыли в пятидесяти ярдах от них, где лежала сломанная повозка. Худая, высокая каттиварская кобыла с горящими глазами, фыркая ноздрями, лягаясь, выскочила из толпы и, понукаемая всадником, понеслась по дороге, преследуя бегущего человека. Всадник был высокий человек с бородой. Он сидел на почти взбесившейся лошади, словно составляя часть ее, и искусно ударял хлыстом свою жертву.
Лицо старого воина озарилось гордостью.
– Мое дитя! – коротко сказал он, пробуя заставить пони изогнуть шею, как следовало.
– Неужели же меня можно бить на глазах полиции? – кричал возчик. – Я добьюсь справедливости.
– Неужели же меня смеет задерживать кричащая обезьяна, которая опрокидывает десять тысяч мешков под носом молодой лошади? Так можно испортить кобылу.
– Он говорит правду. Он говорит правду. Но она хорошо слушается своего господина, – сказал старый воин. Возчик укрылся под колесами повозки и угрожал оттуда всеми видами мести.
– Сильные люди твои сыновья, – спокойно заметил полицейский, ковыряя в зубах.
Всадник в последний раз сильно ударил хлыстом и поехал рысью.
– Отец мой!
Он остановился ярдах в десяти и сошел с лошади.
Старик в одно мгновение спустился с пони, и отец и сын обнялись, по восточному обычаю.
Глава четвертая
О, Фортуна не знатная дама,