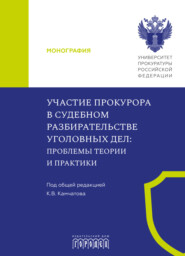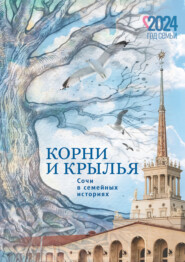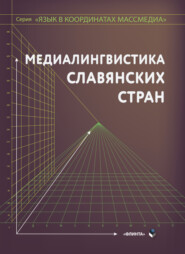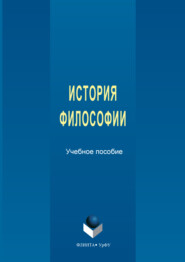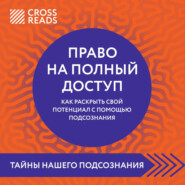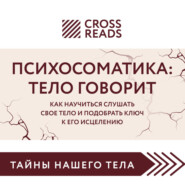По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психология человека в современном мире. Том 3. Психология развития и акмеология. Экзистенциальные проблемы в трудах С. Л. Рубинштейна и в современной психологии. Рубинштейновские традиции исследования
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В целом можно полагать, что подобная интенциональная организация, характерный тип взаимоотношений партнеров, как и факт лидирования в доминировании в сравнении со старшим возрастом, являются проявлением в речи, с одной стороны, эгоцентризма (Пиаже, 1932), с другой – кризиса трех лет (Выготский, 1982).
Преодолев кризис трехлетнего возраста, характеризующийся проявлением негативизма, упрямства, строптивостью и своеволием, дети переходят к новому типу взаимоотношений с окружающими. Постепенно развиваясь и обогащаясь, общение со сверстниками превращается в истинно социальное взаимодействие, которое приводит к созданию маленьких детских сообществ с собственными законами и правилами жизни.
Латентный период у детей 4–5 лет характеризуется накоплением опыта взаимодействия, приобретаемого детьми по мере взросления. Поведение детей становится более социально адаптированным, расширяется круг интересов, изменяется тематическая направленность разговоров. В этом возрасте дети по-прежнему ориентированы на совместную игру. Однако организация игры приобретает большую сложность, а сама игра более продумана и детализирована. Наблюдается и больший интерес к общению с партнером. Стремление настоять на своем постепенно уступает место нацеленности на продуктивное взаимодействие с собеседником. Эта тенденция усиливается с возрастом. В этом возрасте основным фактором, определяющим взаимодействие детей, становится активность партнеров, нацеленная на организацию игры: игровые действия приобретают формы использования инициативы, управления, предложения своих правил одними детьми; подчинения, принятия правил игры у других, сопротивления, противодействия и соперничества у третьих. Проявление разной степени активности детей может, видимо, иметь различные основания. Немаловажны такие моменты, как освоенность ребенка в группе, доброжелательное отношение к нему со стороны сверстников и воспитателей, характер домашней обстановки, привычной для ребенка.
Типичный диалог для этого возраста:
А.: Поехали на мотоцикле //
В.: За машинками //
А.: Они в коробке на второй полочке //
В.: Кто будет рулить //
А.: Давай нашу считалочку / все / садись / тр-тр-трр / все приехали //
В.: Они больше нам не нужны //
А.: Совсем / тогда поехали назад //
С ростом активности детей, стремлением к продуктивному взаимодействию наблюдаются изменения и в их отношениях собеседников, проявляющихся в диалогах. В этом возрасте отмечается большее разнообразие интенциональных паттернов, характеризующих эти отношения. Симметричное доминирование встречается уже не так часто. Преобладают комплементарное доминирование (??) и комплементарное подчинение (??). Эта тенденция усиливается с возрастом (5–6 лет).
В возрасте 6–7 лет игровые диалоги встречаются реже. Они уступают место более пространным, сложно организованным разговорам, возникающим в разнообразных ситуациях. В этом возрасте складывается полноценный партнерский диалог между детьми, близкий по своей интенциональной организации к диалогу взрослых.
Диалоги 6–7-летних детей характеризуются усилением роли интенций отношенческого характера, отмечаются изменения в их качественном составе. Растущая направленность на общение, на собеседника и текущее взаимодействие в совокупности с усвоенными нормами речевого поведения проявляется в увеличении числа обращенных к партнеру отношенческих интенций позитивного характера. Обращение с просьбой, выражение благодарности, похвала свидетельствуют о постепенном переходе от стремления настоять на своем к нацеленности на взаимодействие с партнером, на налаживание отношений с ним.
В этом возрасте в ходе общения дети, как правило, в равной мере доминируют и подчиняются. В проанализированных диалогах представлены все пять выделенных нами интенциональных паттернов взаимоотношений собеседников. При этом симметричное подчинение, характеризующееся слабой, зависимой позицией партнера в инициирующей реплике, впервые появляется в диалогах детей 6–7 лет и выражено в меньшей мере. Регуляция взаимоотношений в этом возрасте приобретает достаточно сложный опосредованный характер, проявляющийся в характерном интенциональном подтексте.
Так, уместная шутка или выражение сочувствия служат для собеседника «маркером» расположенности, сглаживают конфликты и дают разговору положительную эмоциональную окраску.
Типичный диалог в этом возрасте:
Д.: Это уже будет пятый подарок / нет/ пять подарков я тебе не могу //
В.: А то Дим / не на то день рождения //
Д.: На какое //
В.: На то / ну когда мне семь лет будет //
Д.: А ты еще этим будешь увлекаться что ли //
В.: Да/в десять лет ты еще будешь играть тоже //
Д.: А / ну ладно / я тебе в семь лет подарю вот это //
Наиболее существенной характеристикой взаимоотношений сверстников в этом возрасте является их принципиальное равноправие. Практика общения ведет к развитию у детей способности строить равноправное сотрудничество с партнером в ходе разговора. Удовольствие от совместного времяпровождения, совместных занятий, сильное желание их продолжать – все это помогает детям не только преодолевать трудности, связанные с разницей мнений, желаний, намерений, но и стимулирует их активность в общении. Именно с ростом активности мы связываем второй пик доминирования, отмеченный в диалогах 6–7-летних детей.
В целом проведенное исследование интенциональной организации детских диалогов и реализующихся в них отношений собеседников выявило особенности интенциональной организации диалогов детей разного возраста и интенциональные паттерны, характеризующие отношения партнеров в разговоре. Можно полагать, что дальнейшее развитие работы в означенном направлении позволит сформировать представление об интенциональном пространстве детского дискурса, о роли отношений собеседников в его формировании и развитии, проследить, как с возрастом под влиянием ситуационных и коммуникативных факторов изменяется это пространство, как происходит социализация детской речи.
Литература
Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. М.: Педагогика, 1982. Т. 2.
Зачесова И. А. Интенциональные особенности речи в непринужденном общении // Психологические исследования дискурса / Отв. ред. Н. Д. Павлова. М: ПЕРСЭ, 2002. С. 141–149.
Зачесова И. А. Возрастные особенности детского речевого общения // Коммуникативные исследования / Науч. ред. И. А. Стернин. Воронеж; Ярославль: Изд-во «Истоки», 2003.
Зачесова И. А. Возрастные особенности ведения разговоров детьми // Проблемы психологии дискурса / Отв. ред. Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова. М.: Изд-во ИП РАН, 2005.
Зачесова И. А. Интенциональная организация семейного бытового дискурса и взаимоотношения собеседников // Языковое сознание: парадигмы исследования / Под ред. Н. В. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой. М., Калуга: ИП Кошелев А. Б., Изд-во «Эйдос», 2007.
Павлова Н. Д. Интент-анализ дискурса // Коммуникативные исследования / Науч. ред. И. А. Стернин. Воронеж; Ярославль: Изд-во «Истоки», 2003.
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л.: ОГИЗ, 1932.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000.
Rogers-Millar L. E., Millar F. E. Domineerings and Dominance: a Transactional View // Human Communication Research. 1979. V. 5. № 3. P. 238–246.
Rogers L. E., Millar F. E., Baevals J. B. Methods for Analyzing Marital Conflict Discourse: Implications of a Systems Approach // Family Proctss. 1985. V. 24. Iss. 2. P. 175–188.
Д. Г. Климась (Москва)
Способность к символизации как показатель развития и интеграции «Я» при расстройствах аутистического спектра
Начиная с ранних работ С. Л. Рубинштейн высказывал идею единства переживания и знания в структуре сознания, интеллектуального и эмоционального компонентов психических процессов (Рубинштейн, 1957. 1973. 2000). Данный принцип он также положил в основу изучения личности.
В модели эмоциональной регуляции (Бардышевская, Лебединский, 2003) роль интегрирующего звена, отражающего благополучие эмоционально-личностной сферы в целом, выполняет уровень символической регуляции. Переход к использованию символических средств выражения эмоционального опыта означает качественный скачок в психическом развитии ребенка, так как значительно расширяет возможности овладения поведением за счет подключения к аффективным процессам когнитивных функций (память, мышление, воображение). Символическая регуляция эмоционального опыта осуществляется в игре, образах фантазий, рисунках и речи. Понимание и обобщение эмоций повышает устойчивость ребенка к фрустрациям, вносит вклад в регуляцию тревоги и импульсивного поведения. В ходе дальнейшего развития символическая функция становится основой развития самосознания, социальных отношений (Morton & Frith, 1995), творческой и интеллектуальной деятельности (Кляйн, 1991; Винникотт, 1981 и др.).
Исследования символической активности и ее роли в развитии личности проводились главным образом в рамках психоаналитического подхода. В работах авторов данного направления было показано, что развитие способности к образованию и использованию символов происходит во взаимодействии со значимым окружением ребенка в раннем возрасте, отражает этапы и качественные аспекты становления «Я» в этот период (Klein, 1991; Шпиц, 2001; Винникотт, 2002). Согласно концепции Винникотта, благодаря «поддерживающему окружению» ребенок продвигается от состояния первичной диффузности и полной зависимости к больше дифференцированности, целостности и персонификации. Одновременно он начинает пользоваться иллюзией творчества, создает свой личный окружающий мир, который становится посредником во взаимодействии с реальной действительностью. Нарушения отношений в диаде могут стать причинами расщепления личности на «Истинную» и «Фальшивую», защитную части. В наиболее тяжелых случаях «Истинное Я» полностью диссимилируется и способность к использованию символов не дебютирует. При нарушениях меньшей выраженности существование «Истинного Я» и его творческие способности прикрываются «самоподдерживающей» системой защит «Фальшивого Я», которые развиваются на основе имитаций, идентификаций и когнитивных функций (Winnicott, 1965).
По мнению ряда авторов, полное сокрытие или замещение реальной личности системой «Фальшивого Я» характерно для шизоидных индивидов (Fairbairn, 1940; Winnicott, 1965; Deutsch, 1995; Лэнг, 1995). Специальных исследований этой проблемы при аутистических расстройствах ранее не проводилось. Однако некоторые типичные защитные способы поведения этих детей рассматривались как признаки «фальшивого» существования в работах Tustin (1981), Bick (1968).
В нашем исследовании детский аутизм рассматривался как следствие ранних нарушений во взаимодействии личности ребенка со значимым окружением (Mahler, 1952; Tustin, 1981; Беттельхейм, 2004). При этом была сделана попытка анализа эмоционально-личностного развития детей с точки зрения динамики соотношения «истинной» и «фальшивой» составляющих. (Доклад основывается на материалах кандидатской диссертации Д. Г. Климась «Эмоциональная регуляция у детей с расстройствами аутистического спектра в 6–10 лет», научный руководитель – М. К. Бардышевская.) В качестве интегративного показателя благополучия при этом выступала способность к символизации эмоционального опыта на уровне аффективных образов и в речи, характеризующая развитие «Истинного Я».
Исследование было основано на анализе случаев и проводилось в контексте терапевтической работы на базе ЦПМССДиП г. Москвы, специально созданного для комплексного сопровождения, социализации и обучения детей с аутистическими расстройствами в «щадящих» и в то же время ограничивающих условиях. В исследовании приняло участие 38 детей 6–10 лет с расстройствами аутистического спектра разной степени тяжести (клинические диагнозы: ранний детский аутизм, атипичный аутизм, детская шизофрения, синдром Аспергера, шизоидное расстройство личности). Данные, полученные в процессе индивидуальной терапевтической работы с детьми (16 чел.), были дополнены результатами консультаций с отслеживанием динамики других детей, посещавших центр (22 чел.).
Описание случаев было основано на модели диагностики эмоционально-личностной сферы (Бардышевская, Лебединский, 2003). При этом использовались данные лонгитюдных (от 1,5 до 3 лет) стандартизированных наблюдений за поведением детей в естественных и более структурированных ситуациях, данные анамнеза, динамических наблюдений других специалистов и родителей детей. В случаях, когда это было возможно, мы использовали простейшие проективные методики.
В силу того что критерии дифференциации «Истинного» и «Фальшивого Я» разработаны недостаточно, в рамках исследования были предложены следующие операциональные определения этих понятий:
«Истинное Я» – способы регуляции эмоций и поведения, которые развиваются в ходе межличностного взаимодействия, используются спонтанно и поддерживают индивидуацию;
«Фальшивое Я» – внешние способы регуляции эмоций и поведения, которые переносятся из фетишистских отношений с окружением и поэтому практически не интериоризуются, используются ригидно и замещают индивидуацию.
Анализ динамики соотношения в развитии «Истинного» и «Фальшивого Я» проводился по показателям в следующих сферах: 1) способы регуляции эмоций и поведения; 2) отношения с предметным миром; 3) отношения «Я – другой».