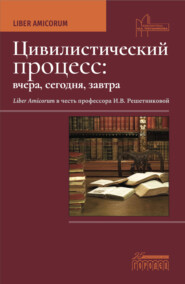По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки по истории стран европейского Средиземноморья. К юбилею заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Владислава Павловича Смирнова
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очерки по истории стран европейского Средиземноморья. К юбилею заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Владислава Павловича Смирнова
Коллектив авторов
Труды исторического факультета МГУ #169
Сборник научных статей в честь 90-летнего юбилея заслуженного профессора МГУ В. П. Смирнова подготовлен его учениками и коллегами. Он охватывает значительное хронологическое и тематическое разнообразие сюжетов внутренней и внешней политики стран европейского Средиземноморья в XIX–XXI вв., которые находились в центре внимания научной деятельности профессора В. П. Смирнова. Рассчитан как на специалистов, так и на широкий круг читателей. Статьи сборника публикуются в авторской редакции.
Очерки по истории стран европейского Средиземноморья
В.П. Смирнов
Белоусов Л. С.[1 - Белоусов Лев Сергеевич – академик РАО, доктор исторических наук, профессор, и.о. декана исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой новой и новейшей истории.]
Юбилей Владислава Павловича Смирнова
Данный сборник статей посвящен юбилею Заслуженного профессора Московского университета Владислава Павловича Смирнова.
На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего особенного, к юбилеям нередко издают подобные книги. Однако для нас – сотрудников кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ – это не формальная благодарность коллеге за многолетний труд. Это дань по-настоящему глубокого уважения и признания.
Владислав Павлович принадлежит к тому поколению университетских историков, которое определяло лицо нашей кафедры на протяжении нескольких десятилетий во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия. Его ядро было сформировано заведующим кафедрой профессором Ильей Савичем Галкиным, обладавшим удивительным даром угадывать среди начинающих историков подлинные дарования. Выбор заведующего, павший на юного франковеда В. П. Смирнова, был безошибочным.
Разносторонне эрудированный человек, по-настоящему влюбленный в историю и в свою профессию; талантливый педагог, воспитавший целую когорту выдающихся отечественных франковедов, почитающих своего мудрого учителя; авторитетный ученый, привыкший опираться в исследованиях на достоверные исторические факты и скрупулезно следующий принципам объективного познания исторического процесса, – таким мы знаем профессора В. П.Смирнова. Если добавить к сказанному мужское обаяние, доброжелательность, остроумие с легкой долей сарказма, порядочность и подлинную, редко встречающуюся ныне интеллигентность, – набросок портрета нашего коллеги и учителя будет готов. В статье его учеников, открывающей данный сборник, умело и тонко нарисован полноценный портрет Владислава Павловича, и я готов подписаться под каждым словом коллег, добавив к сказанному лишь немного личного.
Не каждый профессор станет по собственной инициативе «возиться» не со своим аспирантом, к тому же поглощенным изучением другой страны. Я был немало удивлен и обрадован, когда на первом году аспирантуры Владислав Павлович неожиданно пригласил меня для разговора о двух моих статьях, только что прошедших обсуждение на заседании страноведческой секции нашей кафедры. Еще большее удивление вызвал сам характер обсуждения, как оказалось впоследствии, чисто «смирновский». Текст был беспощадно испещрен замечаниями, иногда слегка язвительными, среди которых наиболее часто встречалось: «чем Вы мерили?» Этот коварный вопрос цеплялся почти к каждому слову «больше», «меньше», «лучше», «хуже» и им подобным. Мне пришлось еще раз всерьез задуматься над написанным, но урок щепетильного отношения к каждому слову научного текста был усвоен навсегда.
Грядущий юбилей дает благоприятный повод для подведения некоторых итогов и взгляда на перспективу, а также по традиции для подарков юбиляру. Однако и в этом отношении Владислав Павлович сумел нас опередить: он сделал подарок нам, опубликовав чрезвычайно интересную, смелую и полемичную книгу «Что такое история и зачем она нужна?» (М., 2019). Эта научно-популярная монография – своего рода итог размышлений профессионала высшего уровня о своей профессии и истории как науке. Возьму на себя смелость утверждать, что любому историку, особенно начинающему, будет весьма полезно с ней ознакомиться.
С юбилеем, дорогой Владислав Павлович!
Канинская Г. Н.[2 - Канинская Галина Николаевна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории ЯрГУ имени П. Г. Демидова.], Наумова Н. Н.[3 - Наумова Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.]
К празднованию 90-летия В. П. Смирнова
3 декабря 2019 г. исполнилось 90 лет доктору исторических наук, заслуженному профессору МГУ, выдающемуся отечественному историку-франковеду, общепризнанному создателю научной «школы» специалистов по новейшей истории Франции, награждённому в знак признания заслуг в 2015 г. французской золотой медалью «La Renaissance Fran?aise», Владиславу Павловичу Смирнову.
В. П. Смирнов родился в городе Кинешма, прежде Костромской, а ныне Ивановской области, «на Волге, в самом центре России», как написал он об этом в своих оригинальных воспоминаниях, где на основе собственной биографии он реконструирует «историю умственной жизни рядового советского человека»[4 - Смирнов В. П. От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи. М., 2011.].
Семья В. П.Смирнова имеет крестьянские корни, и первыми к образованию приобщились его родители. Владислав Павлович вспоминает, что в его семье любили читать и было множество книг, в частности, произведения классической литературы – Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Любимыми детскими книгами В. П. Смирнова были «Приключения Травки», написанные советским писателем Сергеем Розановым в 1930 г., и роман Л. В. Соловьёва «Возмутитель спокойствия» (1940 г.) – первая часть его наиболее значительного произведения «Повести о Ходже Насреддине». По словам Владислава Павловича, позже, уже в юности, он с большим интересом читал прозу Ремарка и Хемингуэя, военные романы; большое впечатление на него произвела повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», впервые опубликованная в журнале «Знамя» в 1946 г.
Отец и мать В. П. Смирнова получили образование в сельскохозяйственном практическом институте в городе Плёс, где они и познакомились. Затем мать заочно окончила педагогическое училище готовившее учителей начальной школы и в дальнейшем неизменно трудилась на педагогическом поприще. Отец В. П. Смирнова постоянно был связан с сельским хозяйством, некоторое время работал директором племенного совхоза крупного рогатого скота в городе Тутаев Ярославской области и вывел его в передовики. Осенью 1940 года отца перевели на работу в Ярославль на должность начальника областного управления животноводства земельного отдела облисполкома Ещё в 30-е годы, он, по воспоминаниям В. П. Смирнова, проходил военную службу, поэтому в мае 1941 г. его мобилизовали на курсы переподготовки артиллеристов в звании лейтенанта в Днепропетровск, где отца Владислава Павловича и застала война. Он прошёл «от звонка до звонка» все четыре года Великой Отечественной – от Ленинграда до Берлина; был ранен, неоднократно отмечен боевыми наградами и закончил войну в звании майора. На долю матери и Владислава Павловича, остававшихся в Ярославле, выпали все тяготы военного лихолетья пережитые населением тыловых областей.
В 1947 г. В. П. Смирнов окончил в Ярославле с золотой медалью школу № 33 и вначале поступил по совету отца в МВТУ им. Баумана но, проучившись один год, понял, что инженерно-техническая специальность – не его призвание, и успешно сдал экзамены на исторический факультет МГУ. Так, с 1948 года и до наших дней, судьба Владислава Павловича оказалась накрепко связана с историческом факультетом где, едва появившись, он, по собственному признанию, отчётливо почувствовал, что оказался «в своей среде», что учился легко и пропадал целыми днями на факультете, и поступление на истфак он до сих пор считает своей удачей.
Специализировался студент В. П. Смирнов по кафедре новой и новейшей истории по истории Франции под руководством, по его словам, «строгого, но внимательного и добродушного» наставника – Наума Ефимовича Застенкера. В 1953 г. он защитил дипломную работу, посвящённую деятельности Французской компартии в межвоенные годы, сразу же поступил в аспирантуру на кафедру и в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию о внутренней политике французских кабинетов в период «странной войны» (сентябрь 1939 – май 1940 гг.). В том же году, в № 1 журнала «Новая и новейшая история» была опубликована его первая научная статья, и с тех пор Владислав Павлович более 50 лет – постоянный автор журнала. В «Новой и новейшей истории» печатались его статьи по истории Второй мировой войны и французского движения Сопротивления, по взаимоотношениям ФКП и Коминтерна, деятельности генерала де Голля и становлению идеологии военного голлизма, биографические работы о Н. Е. Застенкере и А. В. Адо.
В январе 1957 г., после окончания срока аспирантуры, В. П. Смирнов начал свою научную карьеру на кафедре новой и новейшей истории с должности ассистента. Руководил тогда кафедрой единственный в её штате профессор Илья Саввич Галкин, исполнявший обязанности ректора МГУ во время Великой Отечественной войны. Владислав Павлович влился в состав кафедры наряду с такими видными учёными и незаурядными людьми из «галкинских призывов», как Е. Ф. Язьков, А. В. Адо, И. П. Дементьев, Н. В. Сивачёв и др. и наряду с преподавательской работой продолжил углублённое изучение истории Франции во время Второй мировой войны. В 1961 г. вышла в свет его первая монография – «Франция во время Второй мировой войны», в 1963 г. – вторая – «Странная война» и поражение Франции». Предметом научного интереса Владислава Павловича надолго становится французское движение Сопротивления.
Благодаря огромной энергии И. С. Галкина, добившегося предоставления молодым учёным длительных научных зарубежных командировок, в 1963 г. В. П. Смирнов отправился на 10-месячную стажировку во Францию, чтобы, так сказать, «на месте» продолжить изучение историю движения Сопротивления. За время пребывания во Франции Владиславу Павловичу удалось собрать уникальные исторические документы, опросить более 30 участников Сопротивления, в том числе руководителей всех его основных организаций, познакомиться и заручиться поддержкой главы Комитета по истории Второй мировой войны при премьер-министре Франции профессора Анри Мишеля, разрешившего ему работать в библиотеке Комитета и поспособствовавшего установлению контактов с корреспондентами Комитета на местах. Не будет преувеличением сказать, что и на сегодняшний день в нашей стране В. П. Смирнов обладает самым большим количеством французских источников по истории Сопротивления и может считаться если не классиком, то основоположником изучения французского Сопротивления в СССР. Хотелось бы добавить, что Владислав Павлович щедро делился этими документами со своими учениками. В значительной степени на «смирновских» архивных материалах было написано немало курсовых, дипломных работ и кандидатских диссертаций.
Научные изыскания во Франции во многом способствовали защите в 1972 г. докторской диссертации по истории движения Сопротивления во Франции в 1940–1944 гг., а также публикации в 1974 г капитальной монографии «Движение Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны». В этой работе впервые была представлена общая картина развития движения Сопротивления во Франции проанализированы его основные проблемы, рассмотрена деятельность главных группировок Сопротивления и исследованы вопросы идейно-политической и классовой борьбы внутри этого движения.
В последующем, вплоть до настоящего времени, В. П. Смирнов продолжил исследование этой темы, результатом чего стала публикация интересных трудов – книг и статей, основанных на новых архивных материалах, которые существенно дополняют и уточняют прежние представления о Франции военных лет, особенно в наиболее дискуссионный период 1939–1941 гг. Речь идёт как о французских, так и о советских архивах, которые в 90-е гг. открыли многие ранее засекреченные факты, что позволило Владиславу Павловичу дополнить представления о Второй мировой войне и по-новому взглянуть на некоторые её события.
Показателем исключительной научной добросовестности В. П. Смирнова явилась предпринятая им после открытия архивов Коминтерна критика собственных работ о периоде «странной войны» в частности – трактовки в них позиции ФКП, которую доступные прежде источники не давали возможности представить всесторонне и объективно.
Тема истории Второй мировой войны остаётся одним из центров научных интересов Владислава Павловича. Как признанный знаток этой проблематики он был включён в состав редколлегии четырёхтомного издания «Мировые войны ХХ века» (М., 2002). В 2005 г. издательство «Весь мир» опубликовало написанную В.П.Смирновым «Краткую историю Второй мировой войны». В ней в сжатой форме обрисованы главные события войны, даны им взвешенные оценки и привлекается внимание читателей к спорным вопросам, которые до сих пор вызывают научные и политические дискуссии. В 2015 г. в издательстве «АСТ-Пресс» вышла новая книга Владислава Павловича под названием «Две войны – одна победа», написанная на мало известных или даже не изученных ранее источниках и замалчиваемых документах, которые позволяют по-новому взглянуть на перипетии военно-политических событий Первой и Второй мировых войн. В. П. Смирнов дал краткое изложение главных событий, нарисовал живые портреты ведущих политических деятелей тех лет, показал их непростые взаимоотношение и вклад в переживаемые ими исторические события. Значительное место в книге уделено развенчанию мифов, критике измышлений и фальсификаций, которые имели место и укоренились в исторической памяти. В этом труде он расширил свой исследовательский диапазон и предпринял попытку сравнить Первую и Вторую мировые войны.
В.П.Смирнов – великолепный знаток истории Франции и самой страны, её традиций и современной жизни. После первой длительной научной командировки во Францию он ещё много раз там побывал, исколесил её из конца в конец, встречался со многими видными французскими учёными, политическими и общественными деятелями, простыми французами. Здесь он приобрёл немало друзей. Владислав Павлович проникся глубокими симпатиями к Франции и её жителям, сумел глубоко вникнуть в проблемы французского общества, его характерные черты, нравы и обычаи. Свои наблюдения и впечатления о Франции и французах в тесной связи с глубоким анализом прошлого и настоящего этой страны он изложил в содержательной, увлекательно написанной книге «Франция: страна, люди, традиции», изданной в 1988 г. Во «Французском ежегоднике» 2002 г. В. П. Смирнов опубликовал заслуживающую внимания биографию маститого французского мэтра знаменитой «школы Анналов» Фернана Броделя, с которым неоднократно встречался и беседовал. А в 2017 г. в издательстве «Ломоносовъ» вышла книга В. П. Смирнова «Образы Франции. История, люди, традиции», в которой, как справедливо отмечается в аннотации, «систематическое изложение французской истории сочетается … с проникновением в национальную психологию и описанием подробностей быта». Владислав Павлович рисует портрет любимой им Франции на фоне современной эпохи, уделяя особое внимание национальным особенностям и национальному характеру французов.
Французские коллеги относятся к Владиславу Павловичу с большим пиететом. Во многом благодаря этому, а также огромным усилиям его и другого талантливого профессора кафедры новой и новейшей истории, ведущего специалиста по истории Французской революции А. В. Адо, в 1981 г. удалось организовать обмен студентами и приглашения французских профессоров для чтения лекций и ведения семинаров на историческом факультете МГУ. В свою очередь, В. П. Смирнова постоянно приглашали в Париж и другие французские города для участия в международных конференциях, по итогам которых, как правило, публиковались сборники статей. Имя его хорошо известно историкам и таких стран, как Германия, Польша, Румыния и КНР, где неоднократно переводились его научные труды. Из общего количества 170 научных трудов В. П. Смирнов имеет более 25 зарубежных публикаций.
Тематика исследований В. П. Смирнова по истории Франции постоянно расширяется. Будучи членом редколлегии в подготовке кафедрой серии книг к 200-летию Французской революции 1789 г. он опубликовал в этой серии в 1991 г. монографию «Традиции Великой французской революции в идейно-политической жизни Франции» в соавторстве со своим бывшим учеником, а на то время уже его коллегой по кафедре В. С. Поскониным. В 2001 г. под редакцией В. П. Смирнова и с его участием кафедрой издана коллективная монография «Французский либерализм в прошлом и настоящем», где свои разделы по разным периодам развития либерализма во Франции написали его ученики, когда-то слушавшие его лекции или учившиеся под его руководством в спецсеминаре, а ныне известные учёные-франковеды Е. О. Обичкина, Е. И. Федосова, Н. Н. Наумова, Г. Ч. Моисеев А. В. Тырсенко.
В. П. Смирнов – блестящий лектор. Он много лет читал на истфаке МГУ общий курс по новейшей истории стран Западной Европы и Америки, специальные курсы по истории движения Сопротивления и истории Пятой республики, долгие годы преподавал молодым студентам-франковедам интересный и познавательный курс «История Франции». Одновременно Владислав Павлович читал общие курсы по новейшей истории на филологическом факультете, факультете журналистики и ИСАА, в Институте повышения квалификации МГУ Лекции Владислава Павловича неизменно вызывали живой интерес у студентов, отличаются насыщенным содержанием, увлекательностью оригинальными оценками и выводами.
Имея огромный опыт преподавания, В. П. Смирнов активно участвовал в создании кафедрой учебной литературы для студентов по общему курсу новейшей истории, историографии, истории Франции. Им написаны главы в учебниках «Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки» (2000 г.), «История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000» (2001 г.), «История стран Европы и Америки в XXI веке» (2012 г.). Особую ценность представляют учебные пособия по истории современной Франции: «Новейшая история Франции. 1918–1975» (1979 г.) и «Франция в ХХ веке» (2001 г.). В центре внимания этих книг – развитие французского общества от традиционного к современному. История Третьей, Четвёртой и Пятой республик излагается через призму исторических традиций страны, проблем внутренней и внешней политики, парламентских и президентских выборов, баталий политических партий, потрясений от мировых и колониальных войн, социальных движений, идеологической борьбы и развития культуры. Начинающие специализироваться по истории Франции ХХ в. студенты-франковеды в первую очередь изучают перечисленные выше работы Владислава Павловича.
Заметный вклад В. П. Смирнов вносит в развитие школьного образования. Он выпустил три школьных учебника по новейшей истории, которые включены Министерством образования РФ в список рекомендуемых для изучения. Первый – «Мир в ХХ веке» (в соавторстве с О. С. Сороко-Цюпой и А. И. Строгановым) – увидел свет в 1996 г. и к настоящему времени выдержал 12 изданий. Второй учебник – «Новейшая история» (в соавторстве с О. Н. Докучаевой и Л. С. Белоусовым) – опубликован в 2008 г. Эти два учебника предназначены для учащихся 11-х классов, а третий, изданный в 2014 г. – «История. Новейшее время. ХХ – начало XXI века» – (в соавторстве с Л. С. Белоусовым), предлагает знакомство и изучение истории учащимся 9-го класса.
Владислав Павлович – один из тех представителей старшего поколения профессоров, кто сыграл важную роль в формировании и развитии кафедры новой и новейшей истории на историческом факультете МГУ, её нынешнего коллектива. Он пользуется большим уважением и искренними человеческими симпатиями среди товарищей по кафедре и факультету, среди своих учеников. В. П. Смирнова отличает научная добросовестность, скрупулёзное внимание к конкретным историческим фактам, документам. Именно на этом фундаменте он основывает свои концептуальные оценки и выводы. Ему чужды абстрактное умозрительное теоретизирование, глобальные обобщения, не основанные на конкретных исторических фактах. Важное достоинство В. П. Смирнова как учёного, исследователя – уважительное отношение к своим коллегам, к их концепциям и точкам зрения, стремление избегать категоричности в собственных оценках и выводах, быть по возможности объективным.
До лета 2017 г., когда В. П. Смирнов ушёл на пенсию, он возглавлял на кафедре секцию истории Франции, Испании, Италии и Греции На протяжении десятков лет студенты и аспиранты, специализирующиеся по новейшей истории Франции, считали за честь осуществлять свои исследования под его руководством. Владислав Павлович тщательнейшим образом работал не только с рукописями своих студентов, аспирантов и докторантов во время их обучения, но и продолжает оказывать им всестороннюю помощь и поддержку после завершения срока их обучения. Он всегда готов обсуждать новые научные проекты своих бывших учеников, читать их работы, давать ненавязчивые советы. Среди учеников В. П. Смирнова десятки дипломников, 16 кандидатов наук, 5 докторов наук: к сожалению, ныне ушедшие из жизни В. С. Шилов, И. М. Бунин, Г. Н. Новиков, а также продолжающие трудиться на исследовательском поле отечественного франковедения профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова Г. Н. Канинская и доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН М. Ц. Арзаканян.
Владислав Павлович никогда не теряет связи со своими бывшими учениками, его интерес к их профессиональной и личной жизни искренний и неподдельный, а отеческая забота, готовность поделиться своими знаниями вызывает глубокое уважение.
В. П. Смирнова отличают порядочность, интеллигентность, живой ум. Это общительный и гостеприимный человек, интересный собеседник. Те, кому довелось работать рядом с ним или учиться у него знают и ценят его прекрасные человеческие качества – внимательное отношение к людям, требовательность в сочетании с доброжелательностью, точность в выполнении своих обязательств, надёжность в дружбе, неиссякаемый юмор.
Владислав Павлович – большой любитель туризма, избороздивший на байдарке немало наших рек и озёр и посетивший с экскурсиями несколько зарубежных стран. Прекрасный семьянин, своими успехами в жизни и в работе он в немалой степени обязан поддержке и заботам со стороны его обаятельной жены и верного друга – Инны Ефимовны Она также окончила истфак МГУ, являлась специалистом по истории Великобритании и до выхода на пенсию трудилась в ИМЭМО РАН. У них сын и четверо внуков, в воспитании которых они принимали, а после смерти Инны Ефимовны в 2017 г. – один Владислав Павлович – самое активное участие. Сын В. П. Смирнова Сергей и внук Степан помогли Владиславу Павловичу подготовить и отредактировать недавно написанную им книгу «Что такое история и зачем она нужна», вышедшую в ноябре 2019 г. Этот труд посвящён тем читателям, «кто интересуется историей и любит её, но не имеет специального исторического образования или ещё его не получил», то есть, старшеклассникам и студентам. Обобщив свой многолетний опыт историка-учёного, исследователя и педагога, Владислав Павлович рассказывает об основных проблемах исторического познания, объясняет, зачем нужна история, как она изучалась в прошлом и исследуется в настоящем, насколько достоверны исторические знания, как история связана с идеологией и политикой. Книга написана мудрым, пережившим многочисленные пертурбации нашего общества и прекрасно образованным человеком, и, без сомнения, её увлекательные тексты найдут своего читателя.
Коллеги, друзья и ученики Владислава Павловича от всей души поздравляют его с юбилейной датой и желают ему крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всех научных замыслов.
Андронов И. Е.[5 - Андронов Илья Евгеньевич – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.]
Уроки историографии. Савойское государство Раннего нового времени
Савойское государство занимает на европейской карте XVIIXVIII веков особое место. Герцогство (до 1416 года – графство) Савойя в Раннее новое время проходит большой путь, особенно заметный в плане политической истории. Его территории медленно, но постоянно и необратимо увеличиваются. Из заштатного феода на окраине Священной Римской империи в начале XV века спустя всего 100 лет герцогство превращается во влиятельного игрока в региональных политических комбинациях, пока – в масштабах Северной Италии или Альпийского региона. Участие этого государства в коалициях и войнах становилось все более заметной деталью того или иного конфликта Наконец, в конце XVII века это государство смогло позволить себе роскошь самостоятельной политической линии – роскошь, утраченную к тому времени большинством итальянских государств. Дальнейшее возвышение также было непрерывным и необратимым. После Утрехтского мира 1713 года корона Савойской династии стала королевской (с Лондонского договора 1720 года оно получило название Сардинского) Наконец, в 1861 году, пройдя через все трудные перипетии Рисорджименто, именно Сардинское королевство сумело объединить страну и провозгласить Королевство Италию.
Так – в виде «итальянской Пруссии» – видится роль Сардинского королевства (применительно к событиям 1800–1861 годов, особенно в англо- и русскоязычной историографии, его часто именуют Пьемонтом) в контексте итальянской истории. Традиционная итальянская историография даже сегодня с трудом избавляется от телеологического восприятия Сардинского королевства как стержня националистического процесса. Официальная историография эпохи фашизма, как известно, стремилась представить всю предшествующую историю как процесс, логически приведший к установлению в Италии режима. Несмотря на свою явную политическую ангажированность, фашистская историография лишь немного изменила расстановку акцентов, еще больше подчеркнув прогрессивную историческую роль Савойского государства и правящей династии, прежде всего, для массового потребителя истории.
Контекст французской истории традиционно предлагает нам иное видение этого процесса. Государство на границе Франции, развивавшееся долгие столетия в общем русле французской истории, говорящее на французском языке, неоднократно захватывавшееся и аннексировавшееся французской армией – вот что такое Савойя для наших парижских коллег. В известной книге Э. Ле Руа Ладюри[6 - См. русский перевод Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции. М., 2005. С. 236–292. Оригинальная версия вышла в 2001 году.] Савойе уделено значительное место. Интересные наблюдения историка за бытом и особенностями провинциальной жизни разворачиваются на фоне войн и договоров савойских герцогов и королей, но присутствие не-французского элемента упоминается считанные разы – «сардами» называют солдат, разбитых французской армией[7 - Там же. С. 253.]. Земли французской Швейцарии, когда-то тоже входившие в состав Савойского государства, упоминаются намного чаще и воспринимаются как единое целое с другими его трансальпийскими территориями.
Чем можно объяснить фундаментальное различие двух подходов, происходящих из двух различных национальных перспектив? В первую очередь – тем, что исследователи из Франции и Италии (и примкнувшие к двум национальным традициям специалисты из третьих стран) оценивают роль «своей» половинки Сардинского королевства, значительно меньше интересуясь положением второй части этого государства в историческом домене страны-соседки[8 - Эта тенденция, безраздельно царствовавшая в европейской историографии до Второй мировой войны, могла быть преодолена в ходе послевоенной дискуссии. После того как стала очевидной ограниченность одностороннего подхода, в попытке открыть преимущества двухстороннего Лино Марини выступил с фундаментальной монографией Marini L. Savoiardi e piemontesi nello stato sabaudo (1418– 1601). V. 1. 1418–1536. Roma, 1962 (второй том так и не вышел). В ней было, в частности, показано постепенное усиление влияния пьемонтского компонента политической элиты в Савойском герцогстве, что только закрепило, во-первых заинтересованность французских и итальянских исследователей только в истории своей части этого государства, а во-вторых, представления о цельности и компактности французской (Савойя) и итальянской («Пьемонт») его части.]. Исходя из этой логики, вполне естественно видеть Сардинское королевство ядром объединения Италии – ведь Рисорджименто является стержнем итальянской истории XIX века, главным процессом, а остальные воспринимаются изучаются и излагаются только в его контексте. Французская история Нового времени предстает историей единого, централизованного государства, и традиционно большое внимание историков уделяется «централизующим» сюжетам вроде истории институтов, чиновничества репрезентации верховной власти, жизни двора и т. п. В этом контексте Савойя не может не быть представлена в виде отдаленной провинции, то отделяющейся от центра, то вновь примыкающей к нему. История Пьемонта stricto sensu вообще не рассматривается как часть французской.
Существует еще проблема восприятия себя савойцами и пьемонтцами в роли представителей особой исторической реальности Культурное своеобразие их могло бы вполне укладываться в модель «региональной специфики», однако выходит далеко за ее рамки. Вне итальянского контекста отдельно изучается и культивируется пьемонтская альпийская музыка: в XVII веке ее популярные жанры – куранта, ригодон и некоторые другие – проникли ко французскому двору В этих жанрах отметились лучшие композиторы Версаля – Ж.-Ф. Рамо Ж.-Б. Люлли, Ф. Филидор-отец, Ф. Куперен и другие. Своеобразие савойской архитектуры Раннего нового времени также не ставится под сомнение: общепринято, что она не укладывается в рамки ни французской, ни итальянской тенденций. Такие мастера, как Г. Гуарини и Ф. Юварра, работали в ряде столиц Южной Европы, однако своеобразие их туринских работ объясняется особыми запросами заказчиков, возникшими благодаря особенностям их вкусов. Своеобразие савойского абсолютизма также выбивается из канвы итальянских государств, однако не приближается к французской модели.
Ощущение своей непричастности к исторической перспективе Италии проявлялось в Пьемонте еще довольно долго, вплоть до середины ХХ века и отчасти даже позже[9 - Историк отмечает, что даже в эпоху фашизма «пересечение границ своего региона воспринималось все еще как далекая поездка, которую пьемонтцы по-прежнему называли на диалекте ndе ‘n Italia [Съездить в Италию (Пьемонт.) – И. А.]» Bosworth R. J. B. L’Italia di Mussolini. 1915–1945. Milano, 2007. P. 29.]. Наиболее «итальянским» классом была верхушка аристократии, говорившая почти исключительно по-французски[10 - Был широко известен следующий анекдот: при подготовке переезда правительства в 1865 году в новую столицу – Флоренцию – многие его члены, и среди них премьер-министр генерал А. Ф. Ламармора, были вынуждены спешно брать уроки итальянского языка, чтобы не ударить в новых обстоятельствах лицом в грязь.]. Именно пьемонтская аристократия формировала высший придворный класс, из которого назначались министры и послы[11 - Выходцами из весьма узкого круга пьемонтской аристократии были, в частности, многие руководители итальянского кабинета министров за период с 1861 по 1914 гг.: К. Кавур, У. Раттацци, А. Ламармора, Л. Ф. Менабреа, Дж. Ланца, Дж. Джолитти, Л. Пеллу, Дж. Саракко.]. Горожане, торговцы и даже крестьяне воспринимали недавно присоединенную Италию как трофей, чему немало способствовала пропаганда, на все лады воспевавшая политическое объединение как успех династии. Жители Турина крайне болезненно переживали утрату их городом в 1865 году столичного статуса. Даже в конце ХХ века, при том, что по всей Северной Италии местный патриотизм (campanilismo) заметно преобладал над общенациональным, в Пьемонте дистанция между региональными и национальными ценностями была более ощутимой, чем в других регионах. Нам сложнее судить о том, как соответствующая проблема выглядит на симметричной французской территории, однако нет повода думать, что ситуация кардинально отличается. Доказательство тому можно найти, например, в статье Поля Гишонне[12 - Guichonnet P. La rеvolution en Savoie dans l’historiographie. In: Dal trono all’albero della libert?. V. I. Roma, 1991. P. 457–470.], в которой автору было нетрудно отделить историографию «католического толка» (de l’inspiration catholique) от «университетской», но оказалось невозможно отметить специфику не-французских земель и не-французской исторической перспективы. Провинциальность французской Савойи, ее отсталость от Пьемонта как с демографической, так и с экономической точек зрения остаются за кадром как в этой публикации, так и во множестве ей подобных.
Историографическая ситуация, сложившейся вокруг ряда исчезнувших ныне государств на границе языковых ареалов (Бургундия, Каталония, Померания), отличается неоднозначностью. С одной стороны, классическая историография, начиная с эпохи позитивизма, предпочитала концепции формирования национальных государств и национальных идентичностей. В этой ситуации национальная идентичность граждан не существующего сегодня государства «теряется» на фоне процессов, представляющихся (ошибочно?) судьбоносными и прогрессивными. Бургундии «повезло», поскольку несколько блестящих работ Й. Хёйзинги были посвящены этой загадочной, мультикультурной и мультиязыковой стране. Каталонская идентичность является предметом бурного обсуждения, причем чаще всего вне дискурса профессиональных историков. Ситуация с национальным чувством жителей Померании и Восточной Пруссии осложняется катастрофой постигшей эти земли в середине ХХ века. Континуитет был не просто прерван: дерево было не сломано, а вырвано вместе с корнями. Между тем, в Раннее новое время эта земля стала местом встречи шведской восточнонемецкой и западнославянской культур и могла бы стать темой исключительно плодотворного изучения. История восточно-альпийских земель под властью Габсбургов также вполне может быть перемещена из контекста австрийской истории в контекст общеальпийской или даже восточно-европейской.
В отношении Савойского государства ситуация выглядит несколько иначе. С конца ХХ века возрождается (в основном трудами профессора Дж. Рикуперати и его многочисленных учеников) интерес к Сардинскому королевству XVIII века как одному из крупных государств региона, обладавших эффективной административной машиной и внушительной армией. Оживился и интерес к Савойскому государству в международной историографии. Важным рубежом стало проведение на очередном конгрессе SCSC (Sixteenth Century Studies Conference) в Женеве в мае 2009 года серии мероприятий на тему истории этого государства. Для удобства был введен в широкое употребление и уточнен в семантике термин Sabaudia, который стал в противоположность Savoy обозначать не область Савойю (область между Альпийским хребтом и Женевским озером), а весь домен государей Савойской династии независимо от географического положения[13 - Слово Sapaudia было замечено у Аммиана Марцеллина. Оно означало территорию по обоим берегам Роны от Женевского озера до области, заселенной секванами. Очевидно, что эта территория значительно превышала площадь средневекового графства Савойи. См. Lot F. Les limites de la Sapaudia. Revue savoisienne. 76 1935. P. 146–156.]. Было, в частности, отмечено, что появившийся в позднее Средневековье латинский топоним Sabaudia и его дериваты относились главным образом ко всей совокупности владений данной династии. В XVI веке у термина появились аналоги в новых языках. Во французском слово Savoie и savoyard стали, однако, вновь соотносить то со всей совокупностью владений династии, то с узкой полосой земли между южным берегом Женевского озера и Альпами[14 - Berthoud L., Matruchot L. Еtude historique et еtymologique des noms de lieux habitеs (villes, villages et principaux hameaux) du dеpartement de la C?te d’Or. V. 2. Semur, 1902.]. С XVI века земли к югу от Альп стали играть значительно более серьезную роль в политике, культуре и хозяйстве государства, в большей степени определять его военную мощь и стратегическое положение. Столица была перенесена через Альпы из Шамбери в Турин в 1563 году; заальпийские владения остались родовыми землями династии, однако их экономическая и культурная роль с течением веков резко упала, сократившись едва ли не полностью до функций охотничьих угодий туринских королей[15 - См., например, Mormorio D. Il Risorgimento. 1848–1870. Roma, 1998. P. 104–106.]. При этом, если подавляющее большинство ученых называло эти территории обобщенно Пьемонтом[16 - Этот термин чаще всего по умолчанию включал в себя, помимо собственно Пьемонта, территории Валле д’Аоста, Салуццо и Монферрата, а также до 1861 года графство Ниццу.], то их французские коллеги настаивали на употреблении слова Savoie для определения всего государства, чем вносили большую путаницу как в процессе диалога, так и при переводе их работ на иностранные языки[17 - Непростая судьба этого термина в англоязычной литературе рассмотрена в Vester M. (Ed.) Sabaudian Studies. Political Culture, Dynasty, & Territory 1400–1700. Kirksville, Missouri, 2013. P. 13 и далее.].
Коллектив авторов
Труды исторического факультета МГУ #169
Сборник научных статей в честь 90-летнего юбилея заслуженного профессора МГУ В. П. Смирнова подготовлен его учениками и коллегами. Он охватывает значительное хронологическое и тематическое разнообразие сюжетов внутренней и внешней политики стран европейского Средиземноморья в XIX–XXI вв., которые находились в центре внимания научной деятельности профессора В. П. Смирнова. Рассчитан как на специалистов, так и на широкий круг читателей. Статьи сборника публикуются в авторской редакции.
Очерки по истории стран европейского Средиземноморья
В.П. Смирнов
Белоусов Л. С.[1 - Белоусов Лев Сергеевич – академик РАО, доктор исторических наук, профессор, и.о. декана исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой новой и новейшей истории.]
Юбилей Владислава Павловича Смирнова
Данный сборник статей посвящен юбилею Заслуженного профессора Московского университета Владислава Павловича Смирнова.
На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего особенного, к юбилеям нередко издают подобные книги. Однако для нас – сотрудников кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ – это не формальная благодарность коллеге за многолетний труд. Это дань по-настоящему глубокого уважения и признания.
Владислав Павлович принадлежит к тому поколению университетских историков, которое определяло лицо нашей кафедры на протяжении нескольких десятилетий во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия. Его ядро было сформировано заведующим кафедрой профессором Ильей Савичем Галкиным, обладавшим удивительным даром угадывать среди начинающих историков подлинные дарования. Выбор заведующего, павший на юного франковеда В. П. Смирнова, был безошибочным.
Разносторонне эрудированный человек, по-настоящему влюбленный в историю и в свою профессию; талантливый педагог, воспитавший целую когорту выдающихся отечественных франковедов, почитающих своего мудрого учителя; авторитетный ученый, привыкший опираться в исследованиях на достоверные исторические факты и скрупулезно следующий принципам объективного познания исторического процесса, – таким мы знаем профессора В. П.Смирнова. Если добавить к сказанному мужское обаяние, доброжелательность, остроумие с легкой долей сарказма, порядочность и подлинную, редко встречающуюся ныне интеллигентность, – набросок портрета нашего коллеги и учителя будет готов. В статье его учеников, открывающей данный сборник, умело и тонко нарисован полноценный портрет Владислава Павловича, и я готов подписаться под каждым словом коллег, добавив к сказанному лишь немного личного.
Не каждый профессор станет по собственной инициативе «возиться» не со своим аспирантом, к тому же поглощенным изучением другой страны. Я был немало удивлен и обрадован, когда на первом году аспирантуры Владислав Павлович неожиданно пригласил меня для разговора о двух моих статьях, только что прошедших обсуждение на заседании страноведческой секции нашей кафедры. Еще большее удивление вызвал сам характер обсуждения, как оказалось впоследствии, чисто «смирновский». Текст был беспощадно испещрен замечаниями, иногда слегка язвительными, среди которых наиболее часто встречалось: «чем Вы мерили?» Этот коварный вопрос цеплялся почти к каждому слову «больше», «меньше», «лучше», «хуже» и им подобным. Мне пришлось еще раз всерьез задуматься над написанным, но урок щепетильного отношения к каждому слову научного текста был усвоен навсегда.
Грядущий юбилей дает благоприятный повод для подведения некоторых итогов и взгляда на перспективу, а также по традиции для подарков юбиляру. Однако и в этом отношении Владислав Павлович сумел нас опередить: он сделал подарок нам, опубликовав чрезвычайно интересную, смелую и полемичную книгу «Что такое история и зачем она нужна?» (М., 2019). Эта научно-популярная монография – своего рода итог размышлений профессионала высшего уровня о своей профессии и истории как науке. Возьму на себя смелость утверждать, что любому историку, особенно начинающему, будет весьма полезно с ней ознакомиться.
С юбилеем, дорогой Владислав Павлович!
Канинская Г. Н.[2 - Канинская Галина Николаевна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории ЯрГУ имени П. Г. Демидова.], Наумова Н. Н.[3 - Наумова Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.]
К празднованию 90-летия В. П. Смирнова
3 декабря 2019 г. исполнилось 90 лет доктору исторических наук, заслуженному профессору МГУ, выдающемуся отечественному историку-франковеду, общепризнанному создателю научной «школы» специалистов по новейшей истории Франции, награждённому в знак признания заслуг в 2015 г. французской золотой медалью «La Renaissance Fran?aise», Владиславу Павловичу Смирнову.
В. П. Смирнов родился в городе Кинешма, прежде Костромской, а ныне Ивановской области, «на Волге, в самом центре России», как написал он об этом в своих оригинальных воспоминаниях, где на основе собственной биографии он реконструирует «историю умственной жизни рядового советского человека»[4 - Смирнов В. П. От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи. М., 2011.].
Семья В. П.Смирнова имеет крестьянские корни, и первыми к образованию приобщились его родители. Владислав Павлович вспоминает, что в его семье любили читать и было множество книг, в частности, произведения классической литературы – Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Любимыми детскими книгами В. П. Смирнова были «Приключения Травки», написанные советским писателем Сергеем Розановым в 1930 г., и роман Л. В. Соловьёва «Возмутитель спокойствия» (1940 г.) – первая часть его наиболее значительного произведения «Повести о Ходже Насреддине». По словам Владислава Павловича, позже, уже в юности, он с большим интересом читал прозу Ремарка и Хемингуэя, военные романы; большое впечатление на него произвела повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», впервые опубликованная в журнале «Знамя» в 1946 г.
Отец и мать В. П. Смирнова получили образование в сельскохозяйственном практическом институте в городе Плёс, где они и познакомились. Затем мать заочно окончила педагогическое училище готовившее учителей начальной школы и в дальнейшем неизменно трудилась на педагогическом поприще. Отец В. П. Смирнова постоянно был связан с сельским хозяйством, некоторое время работал директором племенного совхоза крупного рогатого скота в городе Тутаев Ярославской области и вывел его в передовики. Осенью 1940 года отца перевели на работу в Ярославль на должность начальника областного управления животноводства земельного отдела облисполкома Ещё в 30-е годы, он, по воспоминаниям В. П. Смирнова, проходил военную службу, поэтому в мае 1941 г. его мобилизовали на курсы переподготовки артиллеристов в звании лейтенанта в Днепропетровск, где отца Владислава Павловича и застала война. Он прошёл «от звонка до звонка» все четыре года Великой Отечественной – от Ленинграда до Берлина; был ранен, неоднократно отмечен боевыми наградами и закончил войну в звании майора. На долю матери и Владислава Павловича, остававшихся в Ярославле, выпали все тяготы военного лихолетья пережитые населением тыловых областей.
В 1947 г. В. П. Смирнов окончил в Ярославле с золотой медалью школу № 33 и вначале поступил по совету отца в МВТУ им. Баумана но, проучившись один год, понял, что инженерно-техническая специальность – не его призвание, и успешно сдал экзамены на исторический факультет МГУ. Так, с 1948 года и до наших дней, судьба Владислава Павловича оказалась накрепко связана с историческом факультетом где, едва появившись, он, по собственному признанию, отчётливо почувствовал, что оказался «в своей среде», что учился легко и пропадал целыми днями на факультете, и поступление на истфак он до сих пор считает своей удачей.
Специализировался студент В. П. Смирнов по кафедре новой и новейшей истории по истории Франции под руководством, по его словам, «строгого, но внимательного и добродушного» наставника – Наума Ефимовича Застенкера. В 1953 г. он защитил дипломную работу, посвящённую деятельности Французской компартии в межвоенные годы, сразу же поступил в аспирантуру на кафедру и в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию о внутренней политике французских кабинетов в период «странной войны» (сентябрь 1939 – май 1940 гг.). В том же году, в № 1 журнала «Новая и новейшая история» была опубликована его первая научная статья, и с тех пор Владислав Павлович более 50 лет – постоянный автор журнала. В «Новой и новейшей истории» печатались его статьи по истории Второй мировой войны и французского движения Сопротивления, по взаимоотношениям ФКП и Коминтерна, деятельности генерала де Голля и становлению идеологии военного голлизма, биографические работы о Н. Е. Застенкере и А. В. Адо.
В январе 1957 г., после окончания срока аспирантуры, В. П. Смирнов начал свою научную карьеру на кафедре новой и новейшей истории с должности ассистента. Руководил тогда кафедрой единственный в её штате профессор Илья Саввич Галкин, исполнявший обязанности ректора МГУ во время Великой Отечественной войны. Владислав Павлович влился в состав кафедры наряду с такими видными учёными и незаурядными людьми из «галкинских призывов», как Е. Ф. Язьков, А. В. Адо, И. П. Дементьев, Н. В. Сивачёв и др. и наряду с преподавательской работой продолжил углублённое изучение истории Франции во время Второй мировой войны. В 1961 г. вышла в свет его первая монография – «Франция во время Второй мировой войны», в 1963 г. – вторая – «Странная война» и поражение Франции». Предметом научного интереса Владислава Павловича надолго становится французское движение Сопротивления.
Благодаря огромной энергии И. С. Галкина, добившегося предоставления молодым учёным длительных научных зарубежных командировок, в 1963 г. В. П. Смирнов отправился на 10-месячную стажировку во Францию, чтобы, так сказать, «на месте» продолжить изучение историю движения Сопротивления. За время пребывания во Франции Владиславу Павловичу удалось собрать уникальные исторические документы, опросить более 30 участников Сопротивления, в том числе руководителей всех его основных организаций, познакомиться и заручиться поддержкой главы Комитета по истории Второй мировой войны при премьер-министре Франции профессора Анри Мишеля, разрешившего ему работать в библиотеке Комитета и поспособствовавшего установлению контактов с корреспондентами Комитета на местах. Не будет преувеличением сказать, что и на сегодняшний день в нашей стране В. П. Смирнов обладает самым большим количеством французских источников по истории Сопротивления и может считаться если не классиком, то основоположником изучения французского Сопротивления в СССР. Хотелось бы добавить, что Владислав Павлович щедро делился этими документами со своими учениками. В значительной степени на «смирновских» архивных материалах было написано немало курсовых, дипломных работ и кандидатских диссертаций.
Научные изыскания во Франции во многом способствовали защите в 1972 г. докторской диссертации по истории движения Сопротивления во Франции в 1940–1944 гг., а также публикации в 1974 г капитальной монографии «Движение Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны». В этой работе впервые была представлена общая картина развития движения Сопротивления во Франции проанализированы его основные проблемы, рассмотрена деятельность главных группировок Сопротивления и исследованы вопросы идейно-политической и классовой борьбы внутри этого движения.
В последующем, вплоть до настоящего времени, В. П. Смирнов продолжил исследование этой темы, результатом чего стала публикация интересных трудов – книг и статей, основанных на новых архивных материалах, которые существенно дополняют и уточняют прежние представления о Франции военных лет, особенно в наиболее дискуссионный период 1939–1941 гг. Речь идёт как о французских, так и о советских архивах, которые в 90-е гг. открыли многие ранее засекреченные факты, что позволило Владиславу Павловичу дополнить представления о Второй мировой войне и по-новому взглянуть на некоторые её события.
Показателем исключительной научной добросовестности В. П. Смирнова явилась предпринятая им после открытия архивов Коминтерна критика собственных работ о периоде «странной войны» в частности – трактовки в них позиции ФКП, которую доступные прежде источники не давали возможности представить всесторонне и объективно.
Тема истории Второй мировой войны остаётся одним из центров научных интересов Владислава Павловича. Как признанный знаток этой проблематики он был включён в состав редколлегии четырёхтомного издания «Мировые войны ХХ века» (М., 2002). В 2005 г. издательство «Весь мир» опубликовало написанную В.П.Смирновым «Краткую историю Второй мировой войны». В ней в сжатой форме обрисованы главные события войны, даны им взвешенные оценки и привлекается внимание читателей к спорным вопросам, которые до сих пор вызывают научные и политические дискуссии. В 2015 г. в издательстве «АСТ-Пресс» вышла новая книга Владислава Павловича под названием «Две войны – одна победа», написанная на мало известных или даже не изученных ранее источниках и замалчиваемых документах, которые позволяют по-новому взглянуть на перипетии военно-политических событий Первой и Второй мировых войн. В. П. Смирнов дал краткое изложение главных событий, нарисовал живые портреты ведущих политических деятелей тех лет, показал их непростые взаимоотношение и вклад в переживаемые ими исторические события. Значительное место в книге уделено развенчанию мифов, критике измышлений и фальсификаций, которые имели место и укоренились в исторической памяти. В этом труде он расширил свой исследовательский диапазон и предпринял попытку сравнить Первую и Вторую мировые войны.
В.П.Смирнов – великолепный знаток истории Франции и самой страны, её традиций и современной жизни. После первой длительной научной командировки во Францию он ещё много раз там побывал, исколесил её из конца в конец, встречался со многими видными французскими учёными, политическими и общественными деятелями, простыми французами. Здесь он приобрёл немало друзей. Владислав Павлович проникся глубокими симпатиями к Франции и её жителям, сумел глубоко вникнуть в проблемы французского общества, его характерные черты, нравы и обычаи. Свои наблюдения и впечатления о Франции и французах в тесной связи с глубоким анализом прошлого и настоящего этой страны он изложил в содержательной, увлекательно написанной книге «Франция: страна, люди, традиции», изданной в 1988 г. Во «Французском ежегоднике» 2002 г. В. П. Смирнов опубликовал заслуживающую внимания биографию маститого французского мэтра знаменитой «школы Анналов» Фернана Броделя, с которым неоднократно встречался и беседовал. А в 2017 г. в издательстве «Ломоносовъ» вышла книга В. П. Смирнова «Образы Франции. История, люди, традиции», в которой, как справедливо отмечается в аннотации, «систематическое изложение французской истории сочетается … с проникновением в национальную психологию и описанием подробностей быта». Владислав Павлович рисует портрет любимой им Франции на фоне современной эпохи, уделяя особое внимание национальным особенностям и национальному характеру французов.
Французские коллеги относятся к Владиславу Павловичу с большим пиететом. Во многом благодаря этому, а также огромным усилиям его и другого талантливого профессора кафедры новой и новейшей истории, ведущего специалиста по истории Французской революции А. В. Адо, в 1981 г. удалось организовать обмен студентами и приглашения французских профессоров для чтения лекций и ведения семинаров на историческом факультете МГУ. В свою очередь, В. П. Смирнова постоянно приглашали в Париж и другие французские города для участия в международных конференциях, по итогам которых, как правило, публиковались сборники статей. Имя его хорошо известно историкам и таких стран, как Германия, Польша, Румыния и КНР, где неоднократно переводились его научные труды. Из общего количества 170 научных трудов В. П. Смирнов имеет более 25 зарубежных публикаций.
Тематика исследований В. П. Смирнова по истории Франции постоянно расширяется. Будучи членом редколлегии в подготовке кафедрой серии книг к 200-летию Французской революции 1789 г. он опубликовал в этой серии в 1991 г. монографию «Традиции Великой французской революции в идейно-политической жизни Франции» в соавторстве со своим бывшим учеником, а на то время уже его коллегой по кафедре В. С. Поскониным. В 2001 г. под редакцией В. П. Смирнова и с его участием кафедрой издана коллективная монография «Французский либерализм в прошлом и настоящем», где свои разделы по разным периодам развития либерализма во Франции написали его ученики, когда-то слушавшие его лекции или учившиеся под его руководством в спецсеминаре, а ныне известные учёные-франковеды Е. О. Обичкина, Е. И. Федосова, Н. Н. Наумова, Г. Ч. Моисеев А. В. Тырсенко.
В. П. Смирнов – блестящий лектор. Он много лет читал на истфаке МГУ общий курс по новейшей истории стран Западной Европы и Америки, специальные курсы по истории движения Сопротивления и истории Пятой республики, долгие годы преподавал молодым студентам-франковедам интересный и познавательный курс «История Франции». Одновременно Владислав Павлович читал общие курсы по новейшей истории на филологическом факультете, факультете журналистики и ИСАА, в Институте повышения квалификации МГУ Лекции Владислава Павловича неизменно вызывали живой интерес у студентов, отличаются насыщенным содержанием, увлекательностью оригинальными оценками и выводами.
Имея огромный опыт преподавания, В. П. Смирнов активно участвовал в создании кафедрой учебной литературы для студентов по общему курсу новейшей истории, историографии, истории Франции. Им написаны главы в учебниках «Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки» (2000 г.), «История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000» (2001 г.), «История стран Европы и Америки в XXI веке» (2012 г.). Особую ценность представляют учебные пособия по истории современной Франции: «Новейшая история Франции. 1918–1975» (1979 г.) и «Франция в ХХ веке» (2001 г.). В центре внимания этих книг – развитие французского общества от традиционного к современному. История Третьей, Четвёртой и Пятой республик излагается через призму исторических традиций страны, проблем внутренней и внешней политики, парламентских и президентских выборов, баталий политических партий, потрясений от мировых и колониальных войн, социальных движений, идеологической борьбы и развития культуры. Начинающие специализироваться по истории Франции ХХ в. студенты-франковеды в первую очередь изучают перечисленные выше работы Владислава Павловича.
Заметный вклад В. П. Смирнов вносит в развитие школьного образования. Он выпустил три школьных учебника по новейшей истории, которые включены Министерством образования РФ в список рекомендуемых для изучения. Первый – «Мир в ХХ веке» (в соавторстве с О. С. Сороко-Цюпой и А. И. Строгановым) – увидел свет в 1996 г. и к настоящему времени выдержал 12 изданий. Второй учебник – «Новейшая история» (в соавторстве с О. Н. Докучаевой и Л. С. Белоусовым) – опубликован в 2008 г. Эти два учебника предназначены для учащихся 11-х классов, а третий, изданный в 2014 г. – «История. Новейшее время. ХХ – начало XXI века» – (в соавторстве с Л. С. Белоусовым), предлагает знакомство и изучение истории учащимся 9-го класса.
Владислав Павлович – один из тех представителей старшего поколения профессоров, кто сыграл важную роль в формировании и развитии кафедры новой и новейшей истории на историческом факультете МГУ, её нынешнего коллектива. Он пользуется большим уважением и искренними человеческими симпатиями среди товарищей по кафедре и факультету, среди своих учеников. В. П. Смирнова отличает научная добросовестность, скрупулёзное внимание к конкретным историческим фактам, документам. Именно на этом фундаменте он основывает свои концептуальные оценки и выводы. Ему чужды абстрактное умозрительное теоретизирование, глобальные обобщения, не основанные на конкретных исторических фактах. Важное достоинство В. П. Смирнова как учёного, исследователя – уважительное отношение к своим коллегам, к их концепциям и точкам зрения, стремление избегать категоричности в собственных оценках и выводах, быть по возможности объективным.
До лета 2017 г., когда В. П. Смирнов ушёл на пенсию, он возглавлял на кафедре секцию истории Франции, Испании, Италии и Греции На протяжении десятков лет студенты и аспиранты, специализирующиеся по новейшей истории Франции, считали за честь осуществлять свои исследования под его руководством. Владислав Павлович тщательнейшим образом работал не только с рукописями своих студентов, аспирантов и докторантов во время их обучения, но и продолжает оказывать им всестороннюю помощь и поддержку после завершения срока их обучения. Он всегда готов обсуждать новые научные проекты своих бывших учеников, читать их работы, давать ненавязчивые советы. Среди учеников В. П. Смирнова десятки дипломников, 16 кандидатов наук, 5 докторов наук: к сожалению, ныне ушедшие из жизни В. С. Шилов, И. М. Бунин, Г. Н. Новиков, а также продолжающие трудиться на исследовательском поле отечественного франковедения профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова Г. Н. Канинская и доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН М. Ц. Арзаканян.
Владислав Павлович никогда не теряет связи со своими бывшими учениками, его интерес к их профессиональной и личной жизни искренний и неподдельный, а отеческая забота, готовность поделиться своими знаниями вызывает глубокое уважение.
В. П. Смирнова отличают порядочность, интеллигентность, живой ум. Это общительный и гостеприимный человек, интересный собеседник. Те, кому довелось работать рядом с ним или учиться у него знают и ценят его прекрасные человеческие качества – внимательное отношение к людям, требовательность в сочетании с доброжелательностью, точность в выполнении своих обязательств, надёжность в дружбе, неиссякаемый юмор.
Владислав Павлович – большой любитель туризма, избороздивший на байдарке немало наших рек и озёр и посетивший с экскурсиями несколько зарубежных стран. Прекрасный семьянин, своими успехами в жизни и в работе он в немалой степени обязан поддержке и заботам со стороны его обаятельной жены и верного друга – Инны Ефимовны Она также окончила истфак МГУ, являлась специалистом по истории Великобритании и до выхода на пенсию трудилась в ИМЭМО РАН. У них сын и четверо внуков, в воспитании которых они принимали, а после смерти Инны Ефимовны в 2017 г. – один Владислав Павлович – самое активное участие. Сын В. П. Смирнова Сергей и внук Степан помогли Владиславу Павловичу подготовить и отредактировать недавно написанную им книгу «Что такое история и зачем она нужна», вышедшую в ноябре 2019 г. Этот труд посвящён тем читателям, «кто интересуется историей и любит её, но не имеет специального исторического образования или ещё его не получил», то есть, старшеклассникам и студентам. Обобщив свой многолетний опыт историка-учёного, исследователя и педагога, Владислав Павлович рассказывает об основных проблемах исторического познания, объясняет, зачем нужна история, как она изучалась в прошлом и исследуется в настоящем, насколько достоверны исторические знания, как история связана с идеологией и политикой. Книга написана мудрым, пережившим многочисленные пертурбации нашего общества и прекрасно образованным человеком, и, без сомнения, её увлекательные тексты найдут своего читателя.
Коллеги, друзья и ученики Владислава Павловича от всей души поздравляют его с юбилейной датой и желают ему крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всех научных замыслов.
Андронов И. Е.[5 - Андронов Илья Евгеньевич – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.]
Уроки историографии. Савойское государство Раннего нового времени
Савойское государство занимает на европейской карте XVIIXVIII веков особое место. Герцогство (до 1416 года – графство) Савойя в Раннее новое время проходит большой путь, особенно заметный в плане политической истории. Его территории медленно, но постоянно и необратимо увеличиваются. Из заштатного феода на окраине Священной Римской империи в начале XV века спустя всего 100 лет герцогство превращается во влиятельного игрока в региональных политических комбинациях, пока – в масштабах Северной Италии или Альпийского региона. Участие этого государства в коалициях и войнах становилось все более заметной деталью того или иного конфликта Наконец, в конце XVII века это государство смогло позволить себе роскошь самостоятельной политической линии – роскошь, утраченную к тому времени большинством итальянских государств. Дальнейшее возвышение также было непрерывным и необратимым. После Утрехтского мира 1713 года корона Савойской династии стала королевской (с Лондонского договора 1720 года оно получило название Сардинского) Наконец, в 1861 году, пройдя через все трудные перипетии Рисорджименто, именно Сардинское королевство сумело объединить страну и провозгласить Королевство Италию.
Так – в виде «итальянской Пруссии» – видится роль Сардинского королевства (применительно к событиям 1800–1861 годов, особенно в англо- и русскоязычной историографии, его часто именуют Пьемонтом) в контексте итальянской истории. Традиционная итальянская историография даже сегодня с трудом избавляется от телеологического восприятия Сардинского королевства как стержня националистического процесса. Официальная историография эпохи фашизма, как известно, стремилась представить всю предшествующую историю как процесс, логически приведший к установлению в Италии режима. Несмотря на свою явную политическую ангажированность, фашистская историография лишь немного изменила расстановку акцентов, еще больше подчеркнув прогрессивную историческую роль Савойского государства и правящей династии, прежде всего, для массового потребителя истории.
Контекст французской истории традиционно предлагает нам иное видение этого процесса. Государство на границе Франции, развивавшееся долгие столетия в общем русле французской истории, говорящее на французском языке, неоднократно захватывавшееся и аннексировавшееся французской армией – вот что такое Савойя для наших парижских коллег. В известной книге Э. Ле Руа Ладюри[6 - См. русский перевод Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции. М., 2005. С. 236–292. Оригинальная версия вышла в 2001 году.] Савойе уделено значительное место. Интересные наблюдения историка за бытом и особенностями провинциальной жизни разворачиваются на фоне войн и договоров савойских герцогов и королей, но присутствие не-французского элемента упоминается считанные разы – «сардами» называют солдат, разбитых французской армией[7 - Там же. С. 253.]. Земли французской Швейцарии, когда-то тоже входившие в состав Савойского государства, упоминаются намного чаще и воспринимаются как единое целое с другими его трансальпийскими территориями.
Чем можно объяснить фундаментальное различие двух подходов, происходящих из двух различных национальных перспектив? В первую очередь – тем, что исследователи из Франции и Италии (и примкнувшие к двум национальным традициям специалисты из третьих стран) оценивают роль «своей» половинки Сардинского королевства, значительно меньше интересуясь положением второй части этого государства в историческом домене страны-соседки[8 - Эта тенденция, безраздельно царствовавшая в европейской историографии до Второй мировой войны, могла быть преодолена в ходе послевоенной дискуссии. После того как стала очевидной ограниченность одностороннего подхода, в попытке открыть преимущества двухстороннего Лино Марини выступил с фундаментальной монографией Marini L. Savoiardi e piemontesi nello stato sabaudo (1418– 1601). V. 1. 1418–1536. Roma, 1962 (второй том так и не вышел). В ней было, в частности, показано постепенное усиление влияния пьемонтского компонента политической элиты в Савойском герцогстве, что только закрепило, во-первых заинтересованность французских и итальянских исследователей только в истории своей части этого государства, а во-вторых, представления о цельности и компактности французской (Савойя) и итальянской («Пьемонт») его части.]. Исходя из этой логики, вполне естественно видеть Сардинское королевство ядром объединения Италии – ведь Рисорджименто является стержнем итальянской истории XIX века, главным процессом, а остальные воспринимаются изучаются и излагаются только в его контексте. Французская история Нового времени предстает историей единого, централизованного государства, и традиционно большое внимание историков уделяется «централизующим» сюжетам вроде истории институтов, чиновничества репрезентации верховной власти, жизни двора и т. п. В этом контексте Савойя не может не быть представлена в виде отдаленной провинции, то отделяющейся от центра, то вновь примыкающей к нему. История Пьемонта stricto sensu вообще не рассматривается как часть французской.
Существует еще проблема восприятия себя савойцами и пьемонтцами в роли представителей особой исторической реальности Культурное своеобразие их могло бы вполне укладываться в модель «региональной специфики», однако выходит далеко за ее рамки. Вне итальянского контекста отдельно изучается и культивируется пьемонтская альпийская музыка: в XVII веке ее популярные жанры – куранта, ригодон и некоторые другие – проникли ко французскому двору В этих жанрах отметились лучшие композиторы Версаля – Ж.-Ф. Рамо Ж.-Б. Люлли, Ф. Филидор-отец, Ф. Куперен и другие. Своеобразие савойской архитектуры Раннего нового времени также не ставится под сомнение: общепринято, что она не укладывается в рамки ни французской, ни итальянской тенденций. Такие мастера, как Г. Гуарини и Ф. Юварра, работали в ряде столиц Южной Европы, однако своеобразие их туринских работ объясняется особыми запросами заказчиков, возникшими благодаря особенностям их вкусов. Своеобразие савойского абсолютизма также выбивается из канвы итальянских государств, однако не приближается к французской модели.
Ощущение своей непричастности к исторической перспективе Италии проявлялось в Пьемонте еще довольно долго, вплоть до середины ХХ века и отчасти даже позже[9 - Историк отмечает, что даже в эпоху фашизма «пересечение границ своего региона воспринималось все еще как далекая поездка, которую пьемонтцы по-прежнему называли на диалекте ndе ‘n Italia [Съездить в Италию (Пьемонт.) – И. А.]» Bosworth R. J. B. L’Italia di Mussolini. 1915–1945. Milano, 2007. P. 29.]. Наиболее «итальянским» классом была верхушка аристократии, говорившая почти исключительно по-французски[10 - Был широко известен следующий анекдот: при подготовке переезда правительства в 1865 году в новую столицу – Флоренцию – многие его члены, и среди них премьер-министр генерал А. Ф. Ламармора, были вынуждены спешно брать уроки итальянского языка, чтобы не ударить в новых обстоятельствах лицом в грязь.]. Именно пьемонтская аристократия формировала высший придворный класс, из которого назначались министры и послы[11 - Выходцами из весьма узкого круга пьемонтской аристократии были, в частности, многие руководители итальянского кабинета министров за период с 1861 по 1914 гг.: К. Кавур, У. Раттацци, А. Ламармора, Л. Ф. Менабреа, Дж. Ланца, Дж. Джолитти, Л. Пеллу, Дж. Саракко.]. Горожане, торговцы и даже крестьяне воспринимали недавно присоединенную Италию как трофей, чему немало способствовала пропаганда, на все лады воспевавшая политическое объединение как успех династии. Жители Турина крайне болезненно переживали утрату их городом в 1865 году столичного статуса. Даже в конце ХХ века, при том, что по всей Северной Италии местный патриотизм (campanilismo) заметно преобладал над общенациональным, в Пьемонте дистанция между региональными и национальными ценностями была более ощутимой, чем в других регионах. Нам сложнее судить о том, как соответствующая проблема выглядит на симметричной французской территории, однако нет повода думать, что ситуация кардинально отличается. Доказательство тому можно найти, например, в статье Поля Гишонне[12 - Guichonnet P. La rеvolution en Savoie dans l’historiographie. In: Dal trono all’albero della libert?. V. I. Roma, 1991. P. 457–470.], в которой автору было нетрудно отделить историографию «католического толка» (de l’inspiration catholique) от «университетской», но оказалось невозможно отметить специфику не-французских земель и не-французской исторической перспективы. Провинциальность французской Савойи, ее отсталость от Пьемонта как с демографической, так и с экономической точек зрения остаются за кадром как в этой публикации, так и во множестве ей подобных.
Историографическая ситуация, сложившейся вокруг ряда исчезнувших ныне государств на границе языковых ареалов (Бургундия, Каталония, Померания), отличается неоднозначностью. С одной стороны, классическая историография, начиная с эпохи позитивизма, предпочитала концепции формирования национальных государств и национальных идентичностей. В этой ситуации национальная идентичность граждан не существующего сегодня государства «теряется» на фоне процессов, представляющихся (ошибочно?) судьбоносными и прогрессивными. Бургундии «повезло», поскольку несколько блестящих работ Й. Хёйзинги были посвящены этой загадочной, мультикультурной и мультиязыковой стране. Каталонская идентичность является предметом бурного обсуждения, причем чаще всего вне дискурса профессиональных историков. Ситуация с национальным чувством жителей Померании и Восточной Пруссии осложняется катастрофой постигшей эти земли в середине ХХ века. Континуитет был не просто прерван: дерево было не сломано, а вырвано вместе с корнями. Между тем, в Раннее новое время эта земля стала местом встречи шведской восточнонемецкой и западнославянской культур и могла бы стать темой исключительно плодотворного изучения. История восточно-альпийских земель под властью Габсбургов также вполне может быть перемещена из контекста австрийской истории в контекст общеальпийской или даже восточно-европейской.
В отношении Савойского государства ситуация выглядит несколько иначе. С конца ХХ века возрождается (в основном трудами профессора Дж. Рикуперати и его многочисленных учеников) интерес к Сардинскому королевству XVIII века как одному из крупных государств региона, обладавших эффективной административной машиной и внушительной армией. Оживился и интерес к Савойскому государству в международной историографии. Важным рубежом стало проведение на очередном конгрессе SCSC (Sixteenth Century Studies Conference) в Женеве в мае 2009 года серии мероприятий на тему истории этого государства. Для удобства был введен в широкое употребление и уточнен в семантике термин Sabaudia, который стал в противоположность Savoy обозначать не область Савойю (область между Альпийским хребтом и Женевским озером), а весь домен государей Савойской династии независимо от географического положения[13 - Слово Sapaudia было замечено у Аммиана Марцеллина. Оно означало территорию по обоим берегам Роны от Женевского озера до области, заселенной секванами. Очевидно, что эта территория значительно превышала площадь средневекового графства Савойи. См. Lot F. Les limites de la Sapaudia. Revue savoisienne. 76 1935. P. 146–156.]. Было, в частности, отмечено, что появившийся в позднее Средневековье латинский топоним Sabaudia и его дериваты относились главным образом ко всей совокупности владений данной династии. В XVI веке у термина появились аналоги в новых языках. Во французском слово Savoie и savoyard стали, однако, вновь соотносить то со всей совокупностью владений династии, то с узкой полосой земли между южным берегом Женевского озера и Альпами[14 - Berthoud L., Matruchot L. Еtude historique et еtymologique des noms de lieux habitеs (villes, villages et principaux hameaux) du dеpartement de la C?te d’Or. V. 2. Semur, 1902.]. С XVI века земли к югу от Альп стали играть значительно более серьезную роль в политике, культуре и хозяйстве государства, в большей степени определять его военную мощь и стратегическое положение. Столица была перенесена через Альпы из Шамбери в Турин в 1563 году; заальпийские владения остались родовыми землями династии, однако их экономическая и культурная роль с течением веков резко упала, сократившись едва ли не полностью до функций охотничьих угодий туринских королей[15 - См., например, Mormorio D. Il Risorgimento. 1848–1870. Roma, 1998. P. 104–106.]. При этом, если подавляющее большинство ученых называло эти территории обобщенно Пьемонтом[16 - Этот термин чаще всего по умолчанию включал в себя, помимо собственно Пьемонта, территории Валле д’Аоста, Салуццо и Монферрата, а также до 1861 года графство Ниццу.], то их французские коллеги настаивали на употреблении слова Savoie для определения всего государства, чем вносили большую путаницу как в процессе диалога, так и при переводе их работ на иностранные языки[17 - Непростая судьба этого термина в англоязычной литературе рассмотрена в Vester M. (Ed.) Sabaudian Studies. Political Culture, Dynasty, & Territory 1400–1700. Kirksville, Missouri, 2013. P. 13 и далее.].