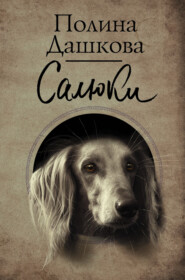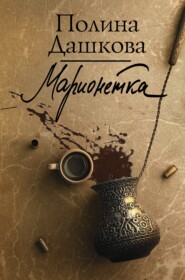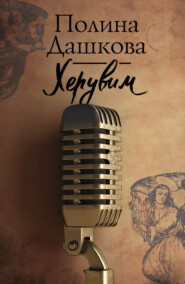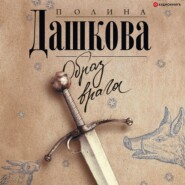По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Качели (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Качели (сборник)
Полина Викторовна Дашкова
Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.
Полина Дашкова
Полина Дашкова
Качели
Вместо предисловия
Всю жизнь, сколько себя помню, я что-нибудь сочиняла. У меня врожденная патология органов чувств или обмена веществ, при которой все увиденное, услышанное и даже унюханное в окружающем мире должно быть непременно выражено в литературной форме. Наиболее точным в этом смысле мне кажется замечание Бердяева: «Если я перестану писать, у меня полопаются кровеносные сосуды».
Меня так увлекает сам процесс, что почти не остается сил позаботиться о судьбе написанного. В советское время мои стихи, эссе, статьи появлялись в печати лишь по инициативе редакций. Самостоятельно, без приглашения, снять телефонную трубку, позвонить, а тем более доехать до какой-нибудь редакции, выложить рукопись на стол перед литературным чиновником, потом выслушивать его державное мнение – от одной только мысли об этом у меня слипались глаза, скулы сводила зевота, во рту возникал вкус рыбьего жира. В итоге я шла куда-нибудь совсем в другое место, в кино, например, или просто погулять, или вообще оставалась дома, садилась за письменный стол и сочиняла что-нибудь.
В юности я гордилась и кокетничала этой своей снобской ленью. Коллеги суетились, заводили нужные знакомства, пробивали публикации, всем их показывали, аккуратно хранили. И правильно делали. Но это я поняла значительно позже. Хрестоматийные строки Пастернака о том, что «не надо заводить архивы, над рукописями трястись», перестали казаться мне аксиомой.
Этим летом на даче, в старом буфете, я обнаружила свалку своих стихов. Черновики, беловики, журналы с публикациями – все это я однажды наспех запихнула в большой пластиковый мешок и отвезла на дачу.
На самом деле это предательство.
Среди бумаг было еще и мое старое эссе о Константине Батюшкове. По сути, первый мой опыт в прозе. Двенадцать почти истлевших, исчерканных страниц машинописного текста. Единственный экземпляр, не тронутый редакторской и цензурной правкой. В журнале «Сельская молодежь» эссе вышло в искаженном виде, уже не помню почему. Но отлично помню, с каким острым, болезненным чувством я когда-то открыла для себя этого поэта, как ездила в Вологду, как сидела ночью на полу в ванной в гостинице ЦК ВЛКСМ и читала единственное прижизненное собрание сочинений поэта с его пометками на полях. Книгу дали мне хранители музея Батюшкова, всего лишь на одну ночь. А в ванной я заперлась потому, что к моим соседкам пришли гости. Соседки были спортсменки-пятиборки. Гости летчики. Они пили и веселились. Я с удивлением обнаружила, что читаю письма поэта по-французски, без всяких усилий, хотя почти не владею этим языком. Я плакала по Константину Батюшкову так, словно знала его, любила, потеряла, словно он, старый и безумный, этой ночью умер у меня на руках.
Прошло двадцать лет. Остался истлевший черновик и приглаженная, вполне успешная публикация в молодежном журнале. Я поняла, что своей ленью, небрежностью, идиотским снобизмом предаю не только себя, но и Батюшкова, и Блеза Паскаля, которому посвятила одно из лучших своих стихотворений, и множество счастливых дней и ночей, наполненных живым дыханием бывших и будущих моих героев.
Я не стала запихивать рукописи назад, в мешок. Мне захотелось собрать книгу, не только из старых моих стихов и эссе, но включить туда то, что было написано совсем недавно. Накопилось много всего: очерки, рассказы, эссе.
Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.
Автор
Эссе. Стихи разных лет
Горожанин и друг горожан
Время и судьба Константина Батюшкова
Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.
О. Э. Мандельштам. «Батюшков»
В Вологде шел снег и путал краски. Было начало июля. Под лиловым небом, под белым колючим ветром недоуменно ежилась мокрая зелень бульвара. В черной глянцевой мостовой плавилось отражение двухсотлетнего красно-белого дома. Силуэт в окне второго этажа вполне мог принадлежать поэту, который когда-то здесь жил и умер. Сейчас здесь ПТУ, и только две комнаты отданы под музей поэта.
Двадцать два года бродил он тенью в покоях отставного капитана флота Григория Абрамовича Гревенца, своего племянника и опекуна. Бродил и бредил, тайком отламывал стрелки часов, из свечного воска лепил фигурки Тассо, Байрона, Иисуса Христа, рисовал и раздавал многочисленным капитанским детям сумрачные акварели, сердился, если картинка оказывалась не у того ребенка, для которого была нарисована. Говорил он мало, и в основном с самим собой. Все шептал строку из своего стихотворения: «И Кесарь мой – святой косарь». Умолял «не влачить в пыли Карамзина и весь русский язык».
Константин Николаевич Батюшков был болен неизлечимо. Он был безумен всю вторую половину жизни.
Незадолго до кончины он опомнился, проснулся, рассудок его стал ясен. Он вдруг обнаружил, что существует в пространстве и во времени, и, стало быть, ничего не страшно. Ему было шестьдесят шесть лет.
Шел 1853 год. Уже не было в живых ни Пушкина, ни Баратынского, ни Лермонтова, ни Гоголя. Усадебная, неторопливая Россия, страна почтовых трактов, извозчиков, станционных смотрителей, стала страной Николаевской железной дороги, каменных колодцев Петербурга, сгорбленных быстрых пешеходов, пасмурных чиновных горожан. Еще через десяток лет русская словесность вложит топор в руку своего сложного мыслящего героя и залепечет о высшей и вечной любви мокрыми губами тихонькой петербургской проститутки. А пока в Вологде больной старик, участник Прусского похода, свидетель пожара Москвы, входивший в Париж адъютантом генерала Раевского, поэт допушкинского отрочества нашей литературы, пишет свое последнее стихотворение:
Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.
Когда-то в молодости у Батюшкова возникла в голове странная строка: «У времени примерзли крылья». Он записал ее в черновике. Это оказалось определением его собственного времени. Каждый поэт при жизни и после смерти имеет, кроме имени, еще и время собственное. С ним он ведет свой вечный диалог.
Гений берет эпоху с ее запахами, сплетнями, модами, привычками, с ежедневной каруселью маленьких скучных событий, берет и поднимает до космической вневременной ясности. Будни первой трети девятнадцатого века начинаются с быта семьи Лариных, с онегинского кабинета, с каморки станционного смотрителя Вырина и карточной игры у конногвардейца Нарумова. Телесное, тленное обаяние эпохи выживает только благодаря гению. Девятнадцатый век до зрелого Пушкина для нас далек и темен. Он начинается тогда, когда его изображает гений. И больше уже не кончается.
Гению его время не мешает и не помогает. Он для времени, для конкретной эпохи, в которой довелось жить, не сын, не пасынок, не герой, не жертва. Они спокойные собеседники на равных. Эпоха может строить козни, жестоко мучить человека разными житейскими обстоятельствами, но она не способна помешать гению. Какие обстоятельства могли помешать Пушкину стать Пушкиным? Об этом можно фантазировать на детском уровне «что было бы, если бы…». Но изменить ничего нельзя. Пушкин гений на все времена, он победитель, и сколько ни швыряли в него камней завистливые современники и потомки, ничего ему не делается.
С талантом все обстоит печальней. Талант целиком зависит от времени, от обстоятельств. Эпоха сама распоряжается им, ломает и мнет, как ей вздумается. Человек, зараженный поэзией, просто талантливый человек, почему-то почти всегда становится пасынком своей эпохи. Он не бывает ни сыном, ни героем. На протяжении полутора веков, включая вторую половину девятнадцатого и почти весь двадцатый, чувство сиротства во времени, чувство зависимости от эпохи с ее жуткими обстоятельствами озвучивалось отдельными строками и целыми стихами. У Цветаевой яркая горькая паника: «В этом христианнейшем из миров поэты – жиды». У Ахматовой спокойная констатация факта: «Здесь все меня переживет».
Но первым это осознал Батюшков. Осознал и сошел с ума. Время сыграло с ним злую шутку. Современник Карамзина и Жуковского, близкий предшественник Пушкина, он дожил до времен Некрасова и Фета, Толстого и Достоевского, и успел страшно мало написать. Мешали обстоятельства. Записные книжки насыщены планами, набросками, замыслами. Жизнь его – пунктирный набросок. Творчество – шкатулка с чудесами, с обломками драгоценных случайностей.
В литературоведении существует шесть полновесных, как чугунные гири, определений поэта Батюшкова: неоклассик, предромантик, романтик, реалист, представитель «легкой поэзии», карамзинист. Белинский сказал о нем веско и грозно: «талант, задушенный временем». Еще железней выразился критик Айхенвальд: «Батюшков затмился и растворился в Пушкине, так что в известном смысле он теперь больше не нужен».
Ну, да Бог им всем судья, господам критикам. Батюшкову в истории литературы и так неуютно, а тут еще они со своими гирями.
Чуть ли не самым значительным произведением поэта принято считать элегию «Умирающий Тасс». В 1817 году он написал своему близкому другу, Гнедичу: «Я послал тебе „Умирающего Тасса“, а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится, и что прочней, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут, в этом я уверен».
Батюшков считал себя неудачником и в записных книжках перечислял следующие резоны:
«Первый резон: мал ростом. 2-й – не довольно дороден; 3-й – рассеян».
Далее, в столбик, по номерам: «не чиновен, не знатен, не богат, не женат, не умею играть в бостон и в вист, ни в шах, ни в мат».
В письмах Гнедичу он оправдывался перед ним и перед собой: «Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне, и в мире – на большой дороге. Спрашиваю тебя – в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?»
Старинный боярский род Батюшковых с Екатерининских времен нес на себе некую печать, то ли невезения, то ли чего-то худшего. Двоюродный дед поэта участвовал в дворянской оппозиции. Целью заговорщиков было убийство Екатерины II или пострижение ее в монахини. Пятнадцатилетний Николай Львович Батюшков, отец поэта, был привлечен своим дядюшкой к заговору против государыни. Дядюшку разоблачили, сослали на дальний север, где он вскоре помешался. Юного племянника помиловали. Навек напуганный Николай Львович поселился в отдаленном имении Даниловском и бестолковыми хозяйственными мероприятиями вдохновенно губил и без того нищее имение. В семье его рождались одни только девочки, и только в 1787-м на свет появился долгожданный сын.
В семилетнем возрасте Константин лишился матери. Александра Григорьевна Батюшкова, урожденная Бердяева, умерла в полном безумии, вдали от детей, в Петербурге. Отец был человеком взбалмошным и деспотичным. Мальчик, соответственно, рос нервным и робким. О семейной склонности к душевным заболеваниям по отцовской и материнской линии он знал с детства.
Юноша Батюшков сказал о себе: «Душою в людстве сир». А впрочем, как же не чувствовать себя сиротой, когда у тебя в семь лет мама умерла? Жизнь, обычная, будничная, перестала ему нравиться раз и навсегда. Он представлял ее совсем иначе. Он хотел быть поэтом, и каждый вечер, укладываясь спать, мечтал проснуться поэтом. А получалось какое-то недоразумение. Вот его послужной список: канцелярский письмоводитель, библиотечный служащий, офицер в глухом захолустье, где-то в Каменец-Подольске.
Что касается литературного заработка, он тогда был вообще немыслим. Редакторы журналов благодарили авторов «за прекрасный подарок». Книги издавались за собственный счет, или за счет друзей-меценатов. Первые литературные гонорары стали выплачивать авторам издатели «Полярной звезды» Бестужев и Рылеев. Это было в 1823-м. А в 1825-м Пушкин, сравнивая положение русского литератора с европейским, писал: «Там пишут для денег, а у нас из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего – так пишут книгу, а у нас есть нечего – так служи, да не сочиняй».
Вот бедный Батюшков и служил. Это мешало ему сочинять.
«Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения… Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю – пускай назовут мое желание странным! – желаю, чтобы поэту приписали особый образ жизни, пиитическую диетику…»
Дело, конечно, было не в мечте о «диетике». Просто хотелось писать стихи, а на это не оставалось времени. И денег всегда не хватало. И вообще, жилось неуютно, одиноко. Отроческое одиночество, предромантический озноб маленького беззащитного человека, обманутого жизнью, обстоятельствами и людьми, тоже, в общем, маленькими, но не предромантическими, а самыми обычными, – все это уже появилось в нашей словесности. «Бедная Лиза» Карамзина. Обманутая любовь, поруганная чистота. Проза «Золотого века» начиналась с простого чистого сострадания обиженному существу. Потом, через несколько десятилетий, маленькие поруганные героини вместо того, чтобы топиться, примутся спасать заблудшие души героев. Одна поруганная пойдет на каторгу за философом-убийцей, другая, наоборот, сама убийца, увлечет за собой на каторгу своего погубителя-растлителя.
Но пока только самое начало девятнадцатого века, только предромантический озноб словесности, и маленькая героиня торгует цветами, а не собой.
Полина Викторовна Дашкова
Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.
Полина Дашкова
Полина Дашкова
Качели
Вместо предисловия
Всю жизнь, сколько себя помню, я что-нибудь сочиняла. У меня врожденная патология органов чувств или обмена веществ, при которой все увиденное, услышанное и даже унюханное в окружающем мире должно быть непременно выражено в литературной форме. Наиболее точным в этом смысле мне кажется замечание Бердяева: «Если я перестану писать, у меня полопаются кровеносные сосуды».
Меня так увлекает сам процесс, что почти не остается сил позаботиться о судьбе написанного. В советское время мои стихи, эссе, статьи появлялись в печати лишь по инициативе редакций. Самостоятельно, без приглашения, снять телефонную трубку, позвонить, а тем более доехать до какой-нибудь редакции, выложить рукопись на стол перед литературным чиновником, потом выслушивать его державное мнение – от одной только мысли об этом у меня слипались глаза, скулы сводила зевота, во рту возникал вкус рыбьего жира. В итоге я шла куда-нибудь совсем в другое место, в кино, например, или просто погулять, или вообще оставалась дома, садилась за письменный стол и сочиняла что-нибудь.
В юности я гордилась и кокетничала этой своей снобской ленью. Коллеги суетились, заводили нужные знакомства, пробивали публикации, всем их показывали, аккуратно хранили. И правильно делали. Но это я поняла значительно позже. Хрестоматийные строки Пастернака о том, что «не надо заводить архивы, над рукописями трястись», перестали казаться мне аксиомой.
Этим летом на даче, в старом буфете, я обнаружила свалку своих стихов. Черновики, беловики, журналы с публикациями – все это я однажды наспех запихнула в большой пластиковый мешок и отвезла на дачу.
На самом деле это предательство.
Среди бумаг было еще и мое старое эссе о Константине Батюшкове. По сути, первый мой опыт в прозе. Двенадцать почти истлевших, исчерканных страниц машинописного текста. Единственный экземпляр, не тронутый редакторской и цензурной правкой. В журнале «Сельская молодежь» эссе вышло в искаженном виде, уже не помню почему. Но отлично помню, с каким острым, болезненным чувством я когда-то открыла для себя этого поэта, как ездила в Вологду, как сидела ночью на полу в ванной в гостинице ЦК ВЛКСМ и читала единственное прижизненное собрание сочинений поэта с его пометками на полях. Книгу дали мне хранители музея Батюшкова, всего лишь на одну ночь. А в ванной я заперлась потому, что к моим соседкам пришли гости. Соседки были спортсменки-пятиборки. Гости летчики. Они пили и веселились. Я с удивлением обнаружила, что читаю письма поэта по-французски, без всяких усилий, хотя почти не владею этим языком. Я плакала по Константину Батюшкову так, словно знала его, любила, потеряла, словно он, старый и безумный, этой ночью умер у меня на руках.
Прошло двадцать лет. Остался истлевший черновик и приглаженная, вполне успешная публикация в молодежном журнале. Я поняла, что своей ленью, небрежностью, идиотским снобизмом предаю не только себя, но и Батюшкова, и Блеза Паскаля, которому посвятила одно из лучших своих стихотворений, и множество счастливых дней и ночей, наполненных живым дыханием бывших и будущих моих героев.
Я не стала запихивать рукописи назад, в мешок. Мне захотелось собрать книгу, не только из старых моих стихов и эссе, но включить туда то, что было написано совсем недавно. Накопилось много всего: очерки, рассказы, эссе.
Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.
Автор
Эссе. Стихи разных лет
Горожанин и друг горожан
Время и судьба Константина Батюшкова
Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.
О. Э. Мандельштам. «Батюшков»
В Вологде шел снег и путал краски. Было начало июля. Под лиловым небом, под белым колючим ветром недоуменно ежилась мокрая зелень бульвара. В черной глянцевой мостовой плавилось отражение двухсотлетнего красно-белого дома. Силуэт в окне второго этажа вполне мог принадлежать поэту, который когда-то здесь жил и умер. Сейчас здесь ПТУ, и только две комнаты отданы под музей поэта.
Двадцать два года бродил он тенью в покоях отставного капитана флота Григория Абрамовича Гревенца, своего племянника и опекуна. Бродил и бредил, тайком отламывал стрелки часов, из свечного воска лепил фигурки Тассо, Байрона, Иисуса Христа, рисовал и раздавал многочисленным капитанским детям сумрачные акварели, сердился, если картинка оказывалась не у того ребенка, для которого была нарисована. Говорил он мало, и в основном с самим собой. Все шептал строку из своего стихотворения: «И Кесарь мой – святой косарь». Умолял «не влачить в пыли Карамзина и весь русский язык».
Константин Николаевич Батюшков был болен неизлечимо. Он был безумен всю вторую половину жизни.
Незадолго до кончины он опомнился, проснулся, рассудок его стал ясен. Он вдруг обнаружил, что существует в пространстве и во времени, и, стало быть, ничего не страшно. Ему было шестьдесят шесть лет.
Шел 1853 год. Уже не было в живых ни Пушкина, ни Баратынского, ни Лермонтова, ни Гоголя. Усадебная, неторопливая Россия, страна почтовых трактов, извозчиков, станционных смотрителей, стала страной Николаевской железной дороги, каменных колодцев Петербурга, сгорбленных быстрых пешеходов, пасмурных чиновных горожан. Еще через десяток лет русская словесность вложит топор в руку своего сложного мыслящего героя и залепечет о высшей и вечной любви мокрыми губами тихонькой петербургской проститутки. А пока в Вологде больной старик, участник Прусского похода, свидетель пожара Москвы, входивший в Париж адъютантом генерала Раевского, поэт допушкинского отрочества нашей литературы, пишет свое последнее стихотворение:
Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.
Когда-то в молодости у Батюшкова возникла в голове странная строка: «У времени примерзли крылья». Он записал ее в черновике. Это оказалось определением его собственного времени. Каждый поэт при жизни и после смерти имеет, кроме имени, еще и время собственное. С ним он ведет свой вечный диалог.
Гений берет эпоху с ее запахами, сплетнями, модами, привычками, с ежедневной каруселью маленьких скучных событий, берет и поднимает до космической вневременной ясности. Будни первой трети девятнадцатого века начинаются с быта семьи Лариных, с онегинского кабинета, с каморки станционного смотрителя Вырина и карточной игры у конногвардейца Нарумова. Телесное, тленное обаяние эпохи выживает только благодаря гению. Девятнадцатый век до зрелого Пушкина для нас далек и темен. Он начинается тогда, когда его изображает гений. И больше уже не кончается.
Гению его время не мешает и не помогает. Он для времени, для конкретной эпохи, в которой довелось жить, не сын, не пасынок, не герой, не жертва. Они спокойные собеседники на равных. Эпоха может строить козни, жестоко мучить человека разными житейскими обстоятельствами, но она не способна помешать гению. Какие обстоятельства могли помешать Пушкину стать Пушкиным? Об этом можно фантазировать на детском уровне «что было бы, если бы…». Но изменить ничего нельзя. Пушкин гений на все времена, он победитель, и сколько ни швыряли в него камней завистливые современники и потомки, ничего ему не делается.
С талантом все обстоит печальней. Талант целиком зависит от времени, от обстоятельств. Эпоха сама распоряжается им, ломает и мнет, как ей вздумается. Человек, зараженный поэзией, просто талантливый человек, почему-то почти всегда становится пасынком своей эпохи. Он не бывает ни сыном, ни героем. На протяжении полутора веков, включая вторую половину девятнадцатого и почти весь двадцатый, чувство сиротства во времени, чувство зависимости от эпохи с ее жуткими обстоятельствами озвучивалось отдельными строками и целыми стихами. У Цветаевой яркая горькая паника: «В этом христианнейшем из миров поэты – жиды». У Ахматовой спокойная констатация факта: «Здесь все меня переживет».
Но первым это осознал Батюшков. Осознал и сошел с ума. Время сыграло с ним злую шутку. Современник Карамзина и Жуковского, близкий предшественник Пушкина, он дожил до времен Некрасова и Фета, Толстого и Достоевского, и успел страшно мало написать. Мешали обстоятельства. Записные книжки насыщены планами, набросками, замыслами. Жизнь его – пунктирный набросок. Творчество – шкатулка с чудесами, с обломками драгоценных случайностей.
В литературоведении существует шесть полновесных, как чугунные гири, определений поэта Батюшкова: неоклассик, предромантик, романтик, реалист, представитель «легкой поэзии», карамзинист. Белинский сказал о нем веско и грозно: «талант, задушенный временем». Еще железней выразился критик Айхенвальд: «Батюшков затмился и растворился в Пушкине, так что в известном смысле он теперь больше не нужен».
Ну, да Бог им всем судья, господам критикам. Батюшкову в истории литературы и так неуютно, а тут еще они со своими гирями.
Чуть ли не самым значительным произведением поэта принято считать элегию «Умирающий Тасс». В 1817 году он написал своему близкому другу, Гнедичу: «Я послал тебе „Умирающего Тасса“, а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится, и что прочней, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут, в этом я уверен».
Батюшков считал себя неудачником и в записных книжках перечислял следующие резоны:
«Первый резон: мал ростом. 2-й – не довольно дороден; 3-й – рассеян».
Далее, в столбик, по номерам: «не чиновен, не знатен, не богат, не женат, не умею играть в бостон и в вист, ни в шах, ни в мат».
В письмах Гнедичу он оправдывался перед ним и перед собой: «Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне, и в мире – на большой дороге. Спрашиваю тебя – в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?»
Старинный боярский род Батюшковых с Екатерининских времен нес на себе некую печать, то ли невезения, то ли чего-то худшего. Двоюродный дед поэта участвовал в дворянской оппозиции. Целью заговорщиков было убийство Екатерины II или пострижение ее в монахини. Пятнадцатилетний Николай Львович Батюшков, отец поэта, был привлечен своим дядюшкой к заговору против государыни. Дядюшку разоблачили, сослали на дальний север, где он вскоре помешался. Юного племянника помиловали. Навек напуганный Николай Львович поселился в отдаленном имении Даниловском и бестолковыми хозяйственными мероприятиями вдохновенно губил и без того нищее имение. В семье его рождались одни только девочки, и только в 1787-м на свет появился долгожданный сын.
В семилетнем возрасте Константин лишился матери. Александра Григорьевна Батюшкова, урожденная Бердяева, умерла в полном безумии, вдали от детей, в Петербурге. Отец был человеком взбалмошным и деспотичным. Мальчик, соответственно, рос нервным и робким. О семейной склонности к душевным заболеваниям по отцовской и материнской линии он знал с детства.
Юноша Батюшков сказал о себе: «Душою в людстве сир». А впрочем, как же не чувствовать себя сиротой, когда у тебя в семь лет мама умерла? Жизнь, обычная, будничная, перестала ему нравиться раз и навсегда. Он представлял ее совсем иначе. Он хотел быть поэтом, и каждый вечер, укладываясь спать, мечтал проснуться поэтом. А получалось какое-то недоразумение. Вот его послужной список: канцелярский письмоводитель, библиотечный служащий, офицер в глухом захолустье, где-то в Каменец-Подольске.
Что касается литературного заработка, он тогда был вообще немыслим. Редакторы журналов благодарили авторов «за прекрасный подарок». Книги издавались за собственный счет, или за счет друзей-меценатов. Первые литературные гонорары стали выплачивать авторам издатели «Полярной звезды» Бестужев и Рылеев. Это было в 1823-м. А в 1825-м Пушкин, сравнивая положение русского литератора с европейским, писал: «Там пишут для денег, а у нас из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего – так пишут книгу, а у нас есть нечего – так служи, да не сочиняй».
Вот бедный Батюшков и служил. Это мешало ему сочинять.
«Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения… Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю – пускай назовут мое желание странным! – желаю, чтобы поэту приписали особый образ жизни, пиитическую диетику…»
Дело, конечно, было не в мечте о «диетике». Просто хотелось писать стихи, а на это не оставалось времени. И денег всегда не хватало. И вообще, жилось неуютно, одиноко. Отроческое одиночество, предромантический озноб маленького беззащитного человека, обманутого жизнью, обстоятельствами и людьми, тоже, в общем, маленькими, но не предромантическими, а самыми обычными, – все это уже появилось в нашей словесности. «Бедная Лиза» Карамзина. Обманутая любовь, поруганная чистота. Проза «Золотого века» начиналась с простого чистого сострадания обиженному существу. Потом, через несколько десятилетий, маленькие поруганные героини вместо того, чтобы топиться, примутся спасать заблудшие души героев. Одна поруганная пойдет на каторгу за философом-убийцей, другая, наоборот, сама убийца, увлечет за собой на каторгу своего погубителя-растлителя.
Но пока только самое начало девятнадцатого века, только предромантический озноб словесности, и маленькая героиня торгует цветами, а не собой.