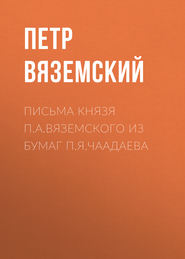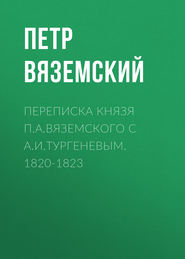По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крылов, как член старой Российской Академии, был недоволен хозяйственными и экономическими распоряжениями ее. Капитал, которым она владела, не употребляла она на пользу русской словесности, не печатала полезных и дешевых книг, не изготовляла новых, улучшенных изданий наших классических писателей, не помогала молодым талантам. «Куда копите вы деньги свои? – спрашивал он академическое правление. – Разве на приданое Академии, чтобы выдать ее замуж за Московский университет?»
Свадьба не состоялась; но после смерти Шишкова значительный академический капитал был отобран. Богатая невеста замуж не вышла, и как сиротка пристроена была к другому месту и под другим именем. Для старых академиков это был жестокий удар. Министра Уварова осуждали за эту реформу. В лирическом негодовании своем иные даже утверждали, что он этим преобразованием оскорбляет память Екатерины Великой: она была основательницей Академии, в лице княгини Дашковой была сама почти членом Академии. Довольно долго раздавались жалобы, сетования и упреки.
Конечно, кажется, лучше было бы не трогать Академии, не нарушать личных преимуществ ее. Она уже пользовалась правом гражданства в составе государства; принесла не столько пользы, сколько могла принести, но все же не совсем праздно просуществовала. Некоторыми нововведениями и улучшениями можно было еще возвысить влияние ее на любознательную и просвещенную публику. В Париже избрание нового академика, приемное заседание ему, речи, при этом читанные, составляют еще и ныне событие для города, который в событиях не нуждается, а скорее подавлен разнородными событиями. У нас далеко не то, особенно в явлениях умственной и литературной деятельности.
Впрочем, наша Академия тоже записала событие в летописях своих: когда Карамзин читал в ней речь и отрывки из «Истории Государства Российского» и получил золотую медаль из рук незлопамятного Шишкова. В лице его старый слог не только примирился с новым, но воздал ему подобающую честь. Это академическое торжество было и общественным, и городским событием. Никогда академическая зала не видала в стенах своих такого многолюдного и блестящего собрания лиц обоего пола. Чтение академика-Пушкина могло бы также быть академическим праздником. Подобные праздники полезны и нужны для разнообразия и пробуждения посреди обихода будничных, голословных дней.
Можно еще заметить, что не каждый член чисто литературной Академии может быть и членом Академии Наук. Фонвизин, Княжнин, Дмитриев и другие им подобные были совершенно на месте своем в Российской Академии; в Академии Наук были бы они не жильцы, а разве гости. И то выходило бы тогда смешение понятий и произвольная классификация.
* * *
После Крылова как-то вспомнилось о Гнедиче. Впрочем, они были приятели и друзья. Дружба их была, вероятно, основана более на уважении друг друга в литературном отношении, хотя дарование каждого из них было совершенно противоположно дарованию другого: они пели не на один лад. А вероятнее еще, короткая их связь закрепилась общим сожительством в доме Императорской Библиотеки.
Во всем быту, как и в свойстве дарования их, выказывалась такая же рознь. Крылов был неряха, хомяк. Он мало заботился о внешности своей. Гнедич, испаханный, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волосы были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи. Несмотря на непригожество свое – прости мне тень его мою нескромность – он придавал себе все притязания и прихоти красавца: иначе не стал бы он выказывать свое безобразие, вставляя его в изысканную нарядную раму. Впрочем, театральная хроника старого времени гласит, что и он имел дни своих любовных успехов и счастья.
Во внутреннем быте своем соответствовал он внешнему. Он был несколько чопорен, величав; речь его звучала несколько декламаторски. Он как-то говорил гекзаметрами. Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово. Он слыл хорошим чтецом; но в чтении его, как и во всем прочем, было мало простоты и натуральности. Крылов, напротив, читал, по крайней мере, басни свои, без малейшего напряжения: они выливались из уст его, как должны были выливаться из пера его, спроста, сами собою. Голос, дикция Гнедича были как будто подавлены платком, который в несколько раз обвивал шею его и горловые органы.
Любезный и во многих отношениях почтенный Гнедич был короче знаком с языком «Илиады», нежели с языком петербургских салонов, то есть с французским. Но одетый по моде, хотел он и говорить по моде. И тут французская речь его была не только с грехом пополам, но и до невозможности забавна. Однажды где-то хвалили красоту какой-то девицы. Он вмешался в разговор и густым голосом своим сказал: Pour moi, се n'est pas un bel visage, mais comme disent les Francois, c'est une jolie figurlette (По мне, так она не красавица, а, как говорят французы, милашка).
Жуковский жил одно время в верхнем этаже Шепелевского дворца. Гнедич пришел к нему. «Ты, кажется, мой Гнедко (Жуковский всегда так называл его), запыхался?» – Oui, отвечал он, j'ai courmonte votre escalier (вбежал на лестницу вашу).
Заключим свои несколько грешные сплетни словом истины, которое должно перевесить все, что может показаться насмешкой в очерке нашем. Гнедич в общежитии был честный человек; в литературе был он честный литератор. Да и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить. Он был в приятельских сношениях с Крыловым, Батюшковым, Жуковским, Пушкиным, Баратынским, Дельвигом, Плетневым, Тургеневым. Он был свой человек в гостеприимном и литературном доме А. Н. Оленина. В литературе оставил он по себе труд и памятник капитальный. Его перевод «Илиады» и Жуковского перевод «Одиссеи» ничего равного себе не имеют в литературе нашей. Они хоть несколько восполнили классический пробел, которым наша литература прискорбно отличалась и отличается от всех других известных европейских литератур.
* * *
Когда князь Шаликов в первый раз представлялся Дмитриеву, он, входя в комнату, сказал ему: mon general. Это тем было забавнее, что в обстановке Дмитриева не было ничего военно-генеральского, что тут являлся он не по делам службы, а по литературным, младший к старшему, и наконец, что Дмитриев не говорил иначе, как по-русски, хотя знал хорошо французский язык; а Шаликов, хотя и говорил на нем, но довольно плохо.
В старое время и в начале столетия, в некоторых слоях общества считалось как-то почтительнее и вежливее обращаться с речью на французском диалекте. Заговаривать по-русски казалось слишком запросто и фамильярно. Зато какие часто забавные промахи отпускались! К ошибкам на отечественном языке оказывалось вообще более терпимости. Свои люди сочтемся, или рука руку, а пожалуй, язык, моет. Высшая образованность в обществе была воспитана на иностранной выдержке. В старое время говорили по-русски более самоучкой. Да иначе и быть не могло. Учителей не было, русских воспитателей не было. В книгах для чтения был большой недостаток. Хороших словарей, общедоступной грамматики налицо также не оказывалось. Есть ли они теперь в удовлетворительном составе и виде? Право, сказать не умею. Лучшие писатели наши прежнего времени сами вскормлены были на чужих хлебах. Но они чужой хлеб перепекали в своей родной печи, прибавляя к ней муки своей, и мало-помалу пошли в ход и вошли в славу московские калачи и разные сдобные печенья.
* * *
В старое время была целая устная литература, литература анекдотическая, забавно искаженной французской речи.
Чьи это портреты? – По середке ma femme, а по бокам pere d'elle и mere d'elle.
А исторический и знаменитый je Федора Петровича Уварова? Наполеон I, в котором-то из сражений, любовался русской кавалерийской атакой и, как рассказывают, воскликнул: Браво! Браво! Вырвавшийся крик из груди художника. Позднее, когда Уваров представлялся ему, Наполеон, вспомнив впечатление свое, спросил его: кто командовал русской кавалерией в таком-то деле? – Je, Sire.
Тоном пониже, но его же. В сенях театра, при выкличке карет полицейским солдатом, повторял: Pas ma, pas ma. Наконец провозгласили карету его: та, та, та, воскликнул он и выбежал из сеней.
Барыня, довольно высокоименитая, была в Риме и представлялась папе. Не знаю, целовала ли она туфлю его святейшества, но известно, что на какой-то вопрос его, отвечала она: oui, mon раре.
Другая русская путешественница, на представлении немецкой королеве, говорила ей: Sirene, на том основании, что королю говорят: Sire. Вольно же французскому языку не быть логически последовательным!
Через какой-то губернский город проезжал ученый путешественник, сильно рекомендованный из Петербурга местному начальству. Губернатор решился дать в честь его обед, но на беду, он никакого иностранного языка не знал. Для того, чтобы помочь этому горю, выписали уездного предводителя, который был в числе военных гостей, посетивших Париж в 1814 году и поэтому прозван был в уезде парижанином. Губернатор просил его заняться во время обеда разговором с путешественником и сказать несколько приличных слов, когда будут пить за здравие его. Наш парижанин охулки на язык не положил. В витиеватой речи он несколько раз выхвалял достоинства de l'illustre coupable du triomphe d'aujourd'hui (знаменитого виновника нынешнего торжества).
В детстве моем знавал я барина, который в русскую речь – а он иначе как по-русски не говорил – вклеивал поминутно слово, или, вернее, звуки мунштр. Кто-то спросил у него истолкования этой странности. – «В молодости моей я совершенно владел французским языком, но прожил двадцать лет в деревни и совершенно потерял навык говорить на нем. Одно только это слово осталось у меня в памяти и невольно навертывается на язык». Кто-то предполагал, что, вероятно, когда-нибудь жена или одна из приятельниц назвала его monstre, и эта кличка однажды навсегда так и врезалась в него.
Немцы также произношением своим делают забавные промолвки. В Москве, на одной вечеринке, хозяйка дома пригласила барона *** сесть за ужин; он извинялся и просил позволения de roter an tour de la table (попродить вокруг стола; вместо roder – побродить).
Дипломат, родом венецианец, в русской службе, чуть ли не Мочениго, в конце донесения своего императрице Екатерине II, говорил: j'ai le bonheur d'etre jusqu'a la mort attache a la grande potence do votre majeste (вместо potenza – держава).
Можно бы собрать целый фолиант подобных археологических и архаических редкостей. Эти промахи языка тем были забавнее, что французские слова вообще очень поддаются на двусмысленное значение. Ныне что-то и этого смеха нет. Уста, чтобы не сказать губы, разучились смеяться; они надулись и нахмурились. Одни щеголеватые фельетонисты и модные повествователи великосветских событий пробуждают улыбку нашу, когда они, с грехом пополам, испещряют французской мозаикой свой русский текст.
* * *
Мы сказали: губы нахмурились. Выражение совершенно правильное. На польском языке сохранилось славянское слово хмура, то есть облако, туча. Напрасно нет этого слова в нашем академическом словаре. Вообще было бы не худо пересмотреть повнимательнее лексиконы польского языка. В них, нет сомнения, нашлось бы довольно слов, которые ускользнули из наших, а на деле принадлежат обоим языкам. Поляки могли бы сделать и у нас подобный повальный обыск. Тут политических перекоров бояться нечего. Никому не было бы в обиду: все были бы в барышах.
Брюллов говорил мне однажды о ком-то. «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут».
Мы с ним прогуливались в Риме и вышли за городские стены, в так называемую la campagna di Roma, Римскую равнину, Римскую степь. Ее воспевали поэты, живописцы старались воспроизводить ее в картинах своих; путешественники любуются ее величавой и грустной прелестью. День тогда был пасмурный; а в Риме нужны переливы сияния. «Жаль, что нет солнца, – сказал Брюллов, – будь оно, и все это пред нами так бы и запело». Замечательно, что он свое поэтическое выражение заимствовал не из живописи, а из музыки.
Но вот слово его же, которое так и носит отпечаток великого живописца. В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюллова, что он думает о ней. «Талант есть, – сказал он, – но в портретах ее нет костей: все одно мясо».
* * *
Известный П. И. Кутузов не всегда был сенатор и куратор. Было время, когда, в молодости, был он кирасирский майор, или подполковник, в полку, квартирующем в Москве.
У кого-то за городом был домашний спектакль. Кутузов участвовал в нем в роли арлекина. После представления спешит он в город и как до него было только версты две или три, он, не переодевшись, а закутавшись в шинель, сел в карету и поскакал в Москву. Второпях забыл он одно: что перед городом есть застава, и при ней неминуемая гауптвахта. Кажется, это было в царствование императора Павла. Он подъезжает, надобно выходить и записаться. Дело сделано, шинель благополучно прикрыла все грехи, но вот, каким-то неосторожным движением проезжающего, шинель распахнулась, и караульный видит в кирасире пестрого арлекина. Можно представить себе, что за coup de theatre!
Как бы то ни было, кирасир-арлекин провел ночь на гауптвахте, а утром, с поличным под караулом, препровожден был к начальству. Помню, как этот рассказ, слышанный мною в детстве, забавлял меня.
* * *
Одно время проказники сговорились проезжать часто чрез Петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. Дня два после такового распоряжения проезжает чрез заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто, во всеуслышание, провозглашает имя и звание свое.
«Некстати вздумали вы шутить, – говорит ему караульный, – знаем вашу братью; извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к господину коменданту». Так и было сделано.
* * *
В старину проезд через заставу был делом государственной важности не только у нас, но и в других государствах: во Франции и в Германии этот порядок соблюдался, может быть, еще строже и докучливее, нежели у нас. Так было и при императоре Александре I.
Волков (Александр Александрович), хорошо знакомый Москве как полицмейстер, обер-полицмейстер, комендант и, окончательно, как начальник Московского жандармского управления – и во всех этих званиях равно любимый москвичами и молодыми московскими барынями – говорил мне, что он нередко имел личные доклады у государя, и всегда все сходило с рук благополучно. Одни представления (в звании коменданта) рапортов императору Александру, во времена пребывания его в Москве, о военных чинах, приезжих и отъезжих, озабочивали его: нередко бывали они поводом к высочайшим замечаниям и выговорам.
Государь имел необыкновенную память и сметливость. Казалось, что он знает наизусть фамилии всего Российского войска, кто в каком полку и какого чина. Малейшая описка в рапорте разом и прямо кидалась ему в глаза. «Не подумай, Волков, – сказал он однажды, – что я придираюсь к тебе. – При этих словах подошел он к столу, выдвинул ящик и показал ему, в каком порядке лежат у него подобные рапорты. – Из трех моих столиц, – прибавил он, – из Петербурга, Москвы и Варшавы».
А сколько головоломного труда стоило немцам записывание фамилий некоторых русских путешественников! Ни понятие их, ни азбука, ни ухо, ни перо не могли подделаться под своенравную терминологию наших родословных грамот и календарных имен. После многих долгих и тщетных усилий правильно записать в книги одну из таких тарабарских для немца фамилий: Aber probiren sie noch ein Mai mit S.C.H. (еще один на Щ), – сказал писарю раздосадованный и выбившийся из сил начальник.
Лучше всех отделался в подобном случае Американец Толстой. Где-то в Германии официально спрашивают его: Ihr Character? – Lustig, – отвечает он, – т. е. веселый.
* * *
Характеристики
I.
N.N. может казаться гордым, но он не горд, а скорее не всегда и не со всех сторон общедоступен.
У него на лбу не написано: очень рад познакомиться с вами, подобно вывеске на гостинице. Он не заезжий дом, открытый для всех проезжающих и проходящих. Он не бегает навстречу к каждому с распростертыми объятиями. Объятия его не гибки; они редко настежь растворяются. К нему не входишь большими воротами, а потаенною, заветною калиткою.
Свадьба не состоялась; но после смерти Шишкова значительный академический капитал был отобран. Богатая невеста замуж не вышла, и как сиротка пристроена была к другому месту и под другим именем. Для старых академиков это был жестокий удар. Министра Уварова осуждали за эту реформу. В лирическом негодовании своем иные даже утверждали, что он этим преобразованием оскорбляет память Екатерины Великой: она была основательницей Академии, в лице княгини Дашковой была сама почти членом Академии. Довольно долго раздавались жалобы, сетования и упреки.
Конечно, кажется, лучше было бы не трогать Академии, не нарушать личных преимуществ ее. Она уже пользовалась правом гражданства в составе государства; принесла не столько пользы, сколько могла принести, но все же не совсем праздно просуществовала. Некоторыми нововведениями и улучшениями можно было еще возвысить влияние ее на любознательную и просвещенную публику. В Париже избрание нового академика, приемное заседание ему, речи, при этом читанные, составляют еще и ныне событие для города, который в событиях не нуждается, а скорее подавлен разнородными событиями. У нас далеко не то, особенно в явлениях умственной и литературной деятельности.
Впрочем, наша Академия тоже записала событие в летописях своих: когда Карамзин читал в ней речь и отрывки из «Истории Государства Российского» и получил золотую медаль из рук незлопамятного Шишкова. В лице его старый слог не только примирился с новым, но воздал ему подобающую честь. Это академическое торжество было и общественным, и городским событием. Никогда академическая зала не видала в стенах своих такого многолюдного и блестящего собрания лиц обоего пола. Чтение академика-Пушкина могло бы также быть академическим праздником. Подобные праздники полезны и нужны для разнообразия и пробуждения посреди обихода будничных, голословных дней.
Можно еще заметить, что не каждый член чисто литературной Академии может быть и членом Академии Наук. Фонвизин, Княжнин, Дмитриев и другие им подобные были совершенно на месте своем в Российской Академии; в Академии Наук были бы они не жильцы, а разве гости. И то выходило бы тогда смешение понятий и произвольная классификация.
* * *
После Крылова как-то вспомнилось о Гнедиче. Впрочем, они были приятели и друзья. Дружба их была, вероятно, основана более на уважении друг друга в литературном отношении, хотя дарование каждого из них было совершенно противоположно дарованию другого: они пели не на один лад. А вероятнее еще, короткая их связь закрепилась общим сожительством в доме Императорской Библиотеки.
Во всем быту, как и в свойстве дарования их, выказывалась такая же рознь. Крылов был неряха, хомяк. Он мало заботился о внешности своей. Гнедич, испаханный, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волосы были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи. Несмотря на непригожество свое – прости мне тень его мою нескромность – он придавал себе все притязания и прихоти красавца: иначе не стал бы он выказывать свое безобразие, вставляя его в изысканную нарядную раму. Впрочем, театральная хроника старого времени гласит, что и он имел дни своих любовных успехов и счастья.
Во внутреннем быте своем соответствовал он внешнему. Он был несколько чопорен, величав; речь его звучала несколько декламаторски. Он как-то говорил гекзаметрами. Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово. Он слыл хорошим чтецом; но в чтении его, как и во всем прочем, было мало простоты и натуральности. Крылов, напротив, читал, по крайней мере, басни свои, без малейшего напряжения: они выливались из уст его, как должны были выливаться из пера его, спроста, сами собою. Голос, дикция Гнедича были как будто подавлены платком, который в несколько раз обвивал шею его и горловые органы.
Любезный и во многих отношениях почтенный Гнедич был короче знаком с языком «Илиады», нежели с языком петербургских салонов, то есть с французским. Но одетый по моде, хотел он и говорить по моде. И тут французская речь его была не только с грехом пополам, но и до невозможности забавна. Однажды где-то хвалили красоту какой-то девицы. Он вмешался в разговор и густым голосом своим сказал: Pour moi, се n'est pas un bel visage, mais comme disent les Francois, c'est une jolie figurlette (По мне, так она не красавица, а, как говорят французы, милашка).
Жуковский жил одно время в верхнем этаже Шепелевского дворца. Гнедич пришел к нему. «Ты, кажется, мой Гнедко (Жуковский всегда так называл его), запыхался?» – Oui, отвечал он, j'ai courmonte votre escalier (вбежал на лестницу вашу).
Заключим свои несколько грешные сплетни словом истины, которое должно перевесить все, что может показаться насмешкой в очерке нашем. Гнедич в общежитии был честный человек; в литературе был он честный литератор. Да и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить. Он был в приятельских сношениях с Крыловым, Батюшковым, Жуковским, Пушкиным, Баратынским, Дельвигом, Плетневым, Тургеневым. Он был свой человек в гостеприимном и литературном доме А. Н. Оленина. В литературе оставил он по себе труд и памятник капитальный. Его перевод «Илиады» и Жуковского перевод «Одиссеи» ничего равного себе не имеют в литературе нашей. Они хоть несколько восполнили классический пробел, которым наша литература прискорбно отличалась и отличается от всех других известных европейских литератур.
* * *
Когда князь Шаликов в первый раз представлялся Дмитриеву, он, входя в комнату, сказал ему: mon general. Это тем было забавнее, что в обстановке Дмитриева не было ничего военно-генеральского, что тут являлся он не по делам службы, а по литературным, младший к старшему, и наконец, что Дмитриев не говорил иначе, как по-русски, хотя знал хорошо французский язык; а Шаликов, хотя и говорил на нем, но довольно плохо.
В старое время и в начале столетия, в некоторых слоях общества считалось как-то почтительнее и вежливее обращаться с речью на французском диалекте. Заговаривать по-русски казалось слишком запросто и фамильярно. Зато какие часто забавные промахи отпускались! К ошибкам на отечественном языке оказывалось вообще более терпимости. Свои люди сочтемся, или рука руку, а пожалуй, язык, моет. Высшая образованность в обществе была воспитана на иностранной выдержке. В старое время говорили по-русски более самоучкой. Да иначе и быть не могло. Учителей не было, русских воспитателей не было. В книгах для чтения был большой недостаток. Хороших словарей, общедоступной грамматики налицо также не оказывалось. Есть ли они теперь в удовлетворительном составе и виде? Право, сказать не умею. Лучшие писатели наши прежнего времени сами вскормлены были на чужих хлебах. Но они чужой хлеб перепекали в своей родной печи, прибавляя к ней муки своей, и мало-помалу пошли в ход и вошли в славу московские калачи и разные сдобные печенья.
* * *
В старое время была целая устная литература, литература анекдотическая, забавно искаженной французской речи.
Чьи это портреты? – По середке ma femme, а по бокам pere d'elle и mere d'elle.
А исторический и знаменитый je Федора Петровича Уварова? Наполеон I, в котором-то из сражений, любовался русской кавалерийской атакой и, как рассказывают, воскликнул: Браво! Браво! Вырвавшийся крик из груди художника. Позднее, когда Уваров представлялся ему, Наполеон, вспомнив впечатление свое, спросил его: кто командовал русской кавалерией в таком-то деле? – Je, Sire.
Тоном пониже, но его же. В сенях театра, при выкличке карет полицейским солдатом, повторял: Pas ma, pas ma. Наконец провозгласили карету его: та, та, та, воскликнул он и выбежал из сеней.
Барыня, довольно высокоименитая, была в Риме и представлялась папе. Не знаю, целовала ли она туфлю его святейшества, но известно, что на какой-то вопрос его, отвечала она: oui, mon раре.
Другая русская путешественница, на представлении немецкой королеве, говорила ей: Sirene, на том основании, что королю говорят: Sire. Вольно же французскому языку не быть логически последовательным!
Через какой-то губернский город проезжал ученый путешественник, сильно рекомендованный из Петербурга местному начальству. Губернатор решился дать в честь его обед, но на беду, он никакого иностранного языка не знал. Для того, чтобы помочь этому горю, выписали уездного предводителя, который был в числе военных гостей, посетивших Париж в 1814 году и поэтому прозван был в уезде парижанином. Губернатор просил его заняться во время обеда разговором с путешественником и сказать несколько приличных слов, когда будут пить за здравие его. Наш парижанин охулки на язык не положил. В витиеватой речи он несколько раз выхвалял достоинства de l'illustre coupable du triomphe d'aujourd'hui (знаменитого виновника нынешнего торжества).
В детстве моем знавал я барина, который в русскую речь – а он иначе как по-русски не говорил – вклеивал поминутно слово, или, вернее, звуки мунштр. Кто-то спросил у него истолкования этой странности. – «В молодости моей я совершенно владел французским языком, но прожил двадцать лет в деревни и совершенно потерял навык говорить на нем. Одно только это слово осталось у меня в памяти и невольно навертывается на язык». Кто-то предполагал, что, вероятно, когда-нибудь жена или одна из приятельниц назвала его monstre, и эта кличка однажды навсегда так и врезалась в него.
Немцы также произношением своим делают забавные промолвки. В Москве, на одной вечеринке, хозяйка дома пригласила барона *** сесть за ужин; он извинялся и просил позволения de roter an tour de la table (попродить вокруг стола; вместо roder – побродить).
Дипломат, родом венецианец, в русской службе, чуть ли не Мочениго, в конце донесения своего императрице Екатерине II, говорил: j'ai le bonheur d'etre jusqu'a la mort attache a la grande potence do votre majeste (вместо potenza – держава).
Можно бы собрать целый фолиант подобных археологических и архаических редкостей. Эти промахи языка тем были забавнее, что французские слова вообще очень поддаются на двусмысленное значение. Ныне что-то и этого смеха нет. Уста, чтобы не сказать губы, разучились смеяться; они надулись и нахмурились. Одни щеголеватые фельетонисты и модные повествователи великосветских событий пробуждают улыбку нашу, когда они, с грехом пополам, испещряют французской мозаикой свой русский текст.
* * *
Мы сказали: губы нахмурились. Выражение совершенно правильное. На польском языке сохранилось славянское слово хмура, то есть облако, туча. Напрасно нет этого слова в нашем академическом словаре. Вообще было бы не худо пересмотреть повнимательнее лексиконы польского языка. В них, нет сомнения, нашлось бы довольно слов, которые ускользнули из наших, а на деле принадлежат обоим языкам. Поляки могли бы сделать и у нас подобный повальный обыск. Тут политических перекоров бояться нечего. Никому не было бы в обиду: все были бы в барышах.
Брюллов говорил мне однажды о ком-то. «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут».
Мы с ним прогуливались в Риме и вышли за городские стены, в так называемую la campagna di Roma, Римскую равнину, Римскую степь. Ее воспевали поэты, живописцы старались воспроизводить ее в картинах своих; путешественники любуются ее величавой и грустной прелестью. День тогда был пасмурный; а в Риме нужны переливы сияния. «Жаль, что нет солнца, – сказал Брюллов, – будь оно, и все это пред нами так бы и запело». Замечательно, что он свое поэтическое выражение заимствовал не из живописи, а из музыки.
Но вот слово его же, которое так и носит отпечаток великого живописца. В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюллова, что он думает о ней. «Талант есть, – сказал он, – но в портретах ее нет костей: все одно мясо».
* * *
Известный П. И. Кутузов не всегда был сенатор и куратор. Было время, когда, в молодости, был он кирасирский майор, или подполковник, в полку, квартирующем в Москве.
У кого-то за городом был домашний спектакль. Кутузов участвовал в нем в роли арлекина. После представления спешит он в город и как до него было только версты две или три, он, не переодевшись, а закутавшись в шинель, сел в карету и поскакал в Москву. Второпях забыл он одно: что перед городом есть застава, и при ней неминуемая гауптвахта. Кажется, это было в царствование императора Павла. Он подъезжает, надобно выходить и записаться. Дело сделано, шинель благополучно прикрыла все грехи, но вот, каким-то неосторожным движением проезжающего, шинель распахнулась, и караульный видит в кирасире пестрого арлекина. Можно представить себе, что за coup de theatre!
Как бы то ни было, кирасир-арлекин провел ночь на гауптвахте, а утром, с поличным под караулом, препровожден был к начальству. Помню, как этот рассказ, слышанный мною в детстве, забавлял меня.
* * *
Одно время проказники сговорились проезжать часто чрез Петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. Дня два после такового распоряжения проезжает чрез заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто, во всеуслышание, провозглашает имя и звание свое.
«Некстати вздумали вы шутить, – говорит ему караульный, – знаем вашу братью; извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к господину коменданту». Так и было сделано.
* * *
В старину проезд через заставу был делом государственной важности не только у нас, но и в других государствах: во Франции и в Германии этот порядок соблюдался, может быть, еще строже и докучливее, нежели у нас. Так было и при императоре Александре I.
Волков (Александр Александрович), хорошо знакомый Москве как полицмейстер, обер-полицмейстер, комендант и, окончательно, как начальник Московского жандармского управления – и во всех этих званиях равно любимый москвичами и молодыми московскими барынями – говорил мне, что он нередко имел личные доклады у государя, и всегда все сходило с рук благополучно. Одни представления (в звании коменданта) рапортов императору Александру, во времена пребывания его в Москве, о военных чинах, приезжих и отъезжих, озабочивали его: нередко бывали они поводом к высочайшим замечаниям и выговорам.
Государь имел необыкновенную память и сметливость. Казалось, что он знает наизусть фамилии всего Российского войска, кто в каком полку и какого чина. Малейшая описка в рапорте разом и прямо кидалась ему в глаза. «Не подумай, Волков, – сказал он однажды, – что я придираюсь к тебе. – При этих словах подошел он к столу, выдвинул ящик и показал ему, в каком порядке лежат у него подобные рапорты. – Из трех моих столиц, – прибавил он, – из Петербурга, Москвы и Варшавы».
А сколько головоломного труда стоило немцам записывание фамилий некоторых русских путешественников! Ни понятие их, ни азбука, ни ухо, ни перо не могли подделаться под своенравную терминологию наших родословных грамот и календарных имен. После многих долгих и тщетных усилий правильно записать в книги одну из таких тарабарских для немца фамилий: Aber probiren sie noch ein Mai mit S.C.H. (еще один на Щ), – сказал писарю раздосадованный и выбившийся из сил начальник.
Лучше всех отделался в подобном случае Американец Толстой. Где-то в Германии официально спрашивают его: Ihr Character? – Lustig, – отвечает он, – т. е. веселый.
* * *
Характеристики
I.
N.N. может казаться гордым, но он не горд, а скорее не всегда и не со всех сторон общедоступен.
У него на лбу не написано: очень рад познакомиться с вами, подобно вывеске на гостинице. Он не заезжий дом, открытый для всех проезжающих и проходящих. Он не бегает навстречу к каждому с распростертыми объятиями. Объятия его не гибки; они редко настежь растворяются. К нему не входишь большими воротами, а потаенною, заветною калиткою.