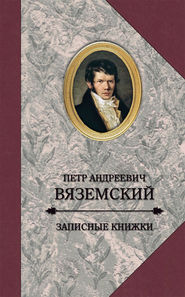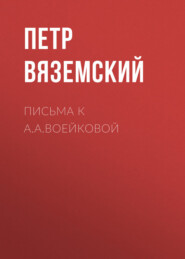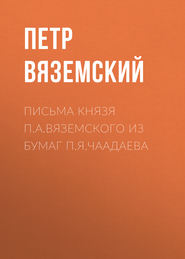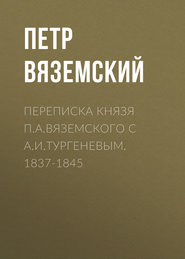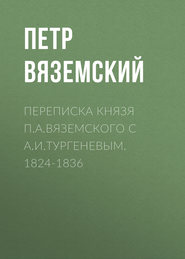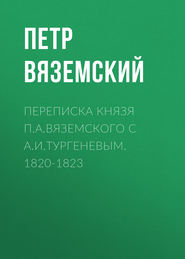По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фон-Визин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
7. Письмо его ж, от того же числа.
8. Письмо кн. В. М. Долгорукова, от 18-го июня, с приложением.
9. Реляция его ж, от 5-го июля.
10. Реляция его ж, от того же числа, с 4-мя приложениями.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
В прошедшую пятницу, принужден будучи нечаянно ехать в город, не мог я никаким образом успеть исполнить долга моего, отправлением к вашему сиятельству не только письма, ниже газет, которые теперь, равно как и вчера полученные, приложить здесь честь имею. Я надеюсь, что как в оном, так и в краткости сего письма, Ваше Сиятельство меня извинить изволите. В рассуждении трудной и важной негоциации нашей с Венским Двором, которая занимала нас сряду дни и ночи целую неделю, наконец приходит она к конечному своему совершению, и чрез несколько часов буду я иметь честь проводить его сиятельство графа, братца вашего в город, для подписание тройной конвенции с Цесарским и Прусским министром. Через неделю, надеюсь я успеть переводом всех новых пиес, до сей негоциации касающихся, кои, можно сказать, целую книгу составляют; а теперь спешу удовольствовать любопытство вашего сиятельства означением здесь границ доли Венского Двора, каковую согласились мы отдать, а Цесарцы взять на часть свою, заключаемою ныне конвенциею.
Сии границы суть: правый берег Вислы от Силезии за Сандомир и до втечения реки Саны, оттуда протянуть прямую линию на Фронпол до Замойска, а оттуда до Рубежева и до реки Буга, и следуя по ту сторону сей реки по истинным границам Красной России (оставляя в тоже время границы Волынии и Подолии), даже до оконечностей Цпараца, оттуда пряною линиею на Днестр, вдоль речки, отделяющей малую часть Подолии, называемой Подорц, до впадения ее в Днестр, и наконец обыкновенные границы между Покуциею и Молдавиею.
Вот, все то, что я на сей раз вашему сиятельству донести успеваю, предоставляя себе счастие ответствовать на два милостивые письма ваши, оба от 16-го дня сего месяца, как скоро только время к тому меня допустит.
С глубочайшим почтением и сердечною преданностию навсегда имею честь быть.
В Петергофе, 24-го июля 1772.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
Наконец, и достальные пиесы, под одиннадцатью нумерами, касающиеся до нашей негоциации с Венским Двором, имею честь сообщить здесь вашему сиятельству.
Ваше сиятельство изволите ныне видеть совершение великого дела, какового в Европе около двух веков не бывало. Правда, что трудно весьма было довести Венский Двор к сему соглашению, да и преклоня в тому, мудрено же было соединить и удовлетворить интересам каждого Двора. Уж никак нельзя было отвратить Венекий Двор от требование соленых заводов и Львова. Дальнейшее, с нашей стороны, в оном упорство могло бы легко разорвать и всю негоцияцию, тогда, когда для России все равно, у Австрийцов ли соляные заводы или у Поляков и когда Король Прусский в том не спорит. Итак, судьба Польши, сдружившая три Двора, решилась наконец к посрамлению ненавиствующей нам Франции, которая, стремясь, сколько можно, нам вредить и помешать пиру нашему с Турками, ищет приключить нам новую войну с Шведами, способом тамо революции. Франция рада на сей раз и Швецию подвергнуть равному жребию с Польшею, лишь бы помешать тем миру нашему! Может статься, или, справедливее сказать, нет сомнения, что медленность Турецких полномочных для съезда на конгресс происходит от коварных внушений Франции, которая, конечно, питает Турков надеждою скорой революции в Швеции, и, следственно, новой у нас со Шведами войны. В самом деле, если удастся умышляемая революция, то и новая для нас война неминуема; но тогда за верное полагать можно, что Датчане вооружатся против Шведов, к чему и приуготовлять их поручается отправляющемуся на сих днях в Копенгаген, в качестве полномочного министра, г. Симолину, тому самому, который заключал перемирие. С глубочайшим почтением и сердечною преданностию.
В Петергофе, 4 Августа 1772.
P. S. Сей момент получено известие, что Турецкие Послы приехали и были у наших, а наши у них с визитами, и разменялись полномочиями.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
К величайшему моему сожалению, две почты сряду не имел я счастия писать к вашему сиятельству; одну, за случившеюся у меня головною болезнию, а другую, для того, что, получа известие о заражении Клина, не успел я решиться на способ, чрез который бы письма мои могли мимо Клина доходить верно до рук ваших. Сей способ теперь известен вам, милостивый государь, через письмо его сиятельства, братца вашего. Став таким образом уверен о безопасности переписки, которую инею честь вести с вашим сиятельством, продолжаю по делам мое доношение, но прежде, нежели начну оное, позвольте принести вам нижайшее мое благодарение, за два милостивые письма ваши, от 17-го и 24-го прошедшего месяца.
В ответ на первое из оных, не останется более, как токмо донести вашему сиятельству, что самый опыт доказывает справедливость ваших рассуждений. Зависть Венского Двора к успехам нашим есть очевиден; но не всякой зависти удается самым делом исполнять свои вредные желания. Может быть, не удается и сему гордому Двору положить преграду нашему вожделенному миру. По крайней мере кажется, что и самому Богу нельзя попустить, чтоб злоба торжествовала, а кровь невинных явилась. Что же надлежит до особы его сиятельства, братца вашего, то излишнее мне было изъяснять вам, все мое усердие к славе его, но не могу же, милостивый государь, то оставить без ответа, что вы мне сказать изволили, как брат его, и в самое тоже время, как беспристрастный человек. Без сомнения, больших людей честолюбие состоит в приобретение себе почтение тех, кои сами почтенны, и которых во всем свете, конечно, мало. Впрочем, хула невежд, которыми свет столько изобилует, не может оскорблять истинных достоинств, равно как и похвала от невежд цены оным не прибавляет. Сие привело мне на мысль два стишка г. Сумарокова, заключающие в себе сию истину:
Достоиной похвалы невежа не умалит;
А то не похвала когда невежи хвалят.
Дальнейшее происшествие известной вам визирской переписки оправдало совершенно благоразумное примечание вашего сиятельства, которое во втором письме вашем найти я честь имел. Из приложений, о коих упомяну я ниже сего, изволите усмотреть, что посланная с Ахметом бумага, кроме некоторого нам предосуждения, ничего не произвела. Здесь же, по сей материи, следует копия с письма графа Г. Гр. Хотя в самом деле, за будущее ручаться не возможно, однако Турецкое изнеможение, вступление Австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию, каким бы самодуром на конгрессе поступлено не было.
Вам, милостивый государь, из прежних писем моих уже известно мнение мое, о воздавании справедливости от публики великим людям. Сколь то правда, что беспокойство ваше, в рассуждении сего, происходить от нежности братского дружества; столь, если смею сказать, мало основательно сие беспокойство ваше, и потому одному, что вся Европа, не говоря уже об Отечестве нашем, знает, кто правит делами и кто мир делает. Словом, как бы фавер не обижал прямое достоинство, но слава первого исчезает с льстецами в то время, когда сам фавер исчезает; а слава другого – никогда не умирает.
XI. Начертание для составления Толкового Словаря Славяно-Российского языка
Толковый словарь Славяно-Российского языка должен содержать в себе по алфавиту, порядком этимологическим, все известные Славяно-Российского языка слова и речения, с истолкованием оных употребление и знаменования.
Из сего явствует, что в составлении Толкового Словаря надлежит принять во уважение: 1-е, выбор слов и речений; 2-е, граматическое оных употребление; 3-е, объяснение их знаменования; 4-е, порядок алфавитный. Здесь на каждую из сих четырех статей представляется особенное положение.
СТАТЬЯ 1-я.
О выборе слов и речений, долженствующих войти в Толковый Словарь Славяно-Российского языка.
Судя по существу слов и речений, составляющих собственно язык Славяно-Российский, не должны иметь в Словаре места:
1-е) Собственные имена людей, городов, морей и проч.
2-е) Все те названия технические наук, художеств и ремесл, кои, не находясь в собственном употреблении, мало известны, и одним только ученым, художникам и ремесленникам сведомы.
3-е) Все неблагопристойные слова и речения.
4-е) Все те иностранные слова, кои не вошли еще в такое употребление, чтоб объяснение их в Российском Словаре необходимо было нужно.
5-е) Как Московское наречие, не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты, прочим справедливо предпочитается {См. Грамматику Ломоносова.}, то провинциальные неизвестные в столицах слова и речение не должны иметь в Словаре места; ибо величина книги бала бы безмерная и для большей части Россиян бесплодна. Из сего правила исключаются те провинциальные слова и речения, кои силою к красотою могут служить к обогащению Российского языка.
6-е) Все длинные пословицы и присловицы, ибо оные особливый словарь составить могут.
СТАТЬЯ 2-я.
О грамматическом словоупотреблении.
По учинении выбора слову, надлежит поставить оное в Словарь тем правописанием, каковым пишется в церковных книгах и в лучших наших писателях. Сохранение правописание весьма нужно для того, чтоб не закрылись совсем следы произведение и сложение слов; в прочем полезно и потому, что некоторые слова весьма различного знаменование произносятся одинаково, и только по правописанию распознаются; например: слово мир, когда пишется чрез ми, значит тишину, когда пишется чрез мi, значит вселенную, когда пишется чрез м?, значит масть благоуханную.
По написании слова правильным образом, надлежит поставить ударение над долгим его слогом. Сие служит к правильному произношению, тем наипаче, что ударение часто составляют разность в самом знаменовании слова: например: образа, образа, полон, полон, мука, мука. При й кратком надлежит ставить обыкновенную скобку, дабы мой не произносить, как мои.
Потом, при каждом слове, надлежит означить, какую часть речи оно составляет.
При имени отметить, существительное или прилагательное; также падеж родительный; при первых, означить род и число, при вторых, равно как и при наречиях, буде уравнение неправильное, надлежит представить оное во всех степенях.
При местоимениях означать, какое-то есть: личное, или возносительное, и проч.
Глаголы ставить во всех неопределенных наклонениях, и означить залог, первое и второе лице настоящего, изъявительного, прошедшее простое того же наклонения; например: бросать, бросить, брасывать; действительное: бросаю, ешь; прошедшее: бросил. Равным образом замечать и все роды глаголов, как то: возвратительный, безличный, и проч.; или каким глагол падежем управляет.
При наречии, предлоге или междометии, надлежит означить, какой падеж принимают.
При союзе примечать, буде он после положительные, увеличительные и уменьшительные, яко производные, имеет место после своих коренных, и препровождается грамматическими примечаниями (?).
После сих частных наблюдений, остается при каждом слове различить:
1-е) Славянское ли оно, например: вещать, или российское, например: говорит.
2-е) Буде слово чужестранное, то какое, например: аминь еврейское, философия греческое, карандаш татарское, и проч.
8. Письмо кн. В. М. Долгорукова, от 18-го июня, с приложением.
9. Реляция его ж, от 5-го июля.
10. Реляция его ж, от того же числа, с 4-мя приложениями.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
В прошедшую пятницу, принужден будучи нечаянно ехать в город, не мог я никаким образом успеть исполнить долга моего, отправлением к вашему сиятельству не только письма, ниже газет, которые теперь, равно как и вчера полученные, приложить здесь честь имею. Я надеюсь, что как в оном, так и в краткости сего письма, Ваше Сиятельство меня извинить изволите. В рассуждении трудной и важной негоциации нашей с Венским Двором, которая занимала нас сряду дни и ночи целую неделю, наконец приходит она к конечному своему совершению, и чрез несколько часов буду я иметь честь проводить его сиятельство графа, братца вашего в город, для подписание тройной конвенции с Цесарским и Прусским министром. Через неделю, надеюсь я успеть переводом всех новых пиес, до сей негоциации касающихся, кои, можно сказать, целую книгу составляют; а теперь спешу удовольствовать любопытство вашего сиятельства означением здесь границ доли Венского Двора, каковую согласились мы отдать, а Цесарцы взять на часть свою, заключаемою ныне конвенциею.
Сии границы суть: правый берег Вислы от Силезии за Сандомир и до втечения реки Саны, оттуда протянуть прямую линию на Фронпол до Замойска, а оттуда до Рубежева и до реки Буга, и следуя по ту сторону сей реки по истинным границам Красной России (оставляя в тоже время границы Волынии и Подолии), даже до оконечностей Цпараца, оттуда пряною линиею на Днестр, вдоль речки, отделяющей малую часть Подолии, называемой Подорц, до впадения ее в Днестр, и наконец обыкновенные границы между Покуциею и Молдавиею.
Вот, все то, что я на сей раз вашему сиятельству донести успеваю, предоставляя себе счастие ответствовать на два милостивые письма ваши, оба от 16-го дня сего месяца, как скоро только время к тому меня допустит.
С глубочайшим почтением и сердечною преданностию навсегда имею честь быть.
В Петергофе, 24-го июля 1772.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
Наконец, и достальные пиесы, под одиннадцатью нумерами, касающиеся до нашей негоциации с Венским Двором, имею честь сообщить здесь вашему сиятельству.
Ваше сиятельство изволите ныне видеть совершение великого дела, какового в Европе около двух веков не бывало. Правда, что трудно весьма было довести Венский Двор к сему соглашению, да и преклоня в тому, мудрено же было соединить и удовлетворить интересам каждого Двора. Уж никак нельзя было отвратить Венекий Двор от требование соленых заводов и Львова. Дальнейшее, с нашей стороны, в оном упорство могло бы легко разорвать и всю негоцияцию, тогда, когда для России все равно, у Австрийцов ли соляные заводы или у Поляков и когда Король Прусский в том не спорит. Итак, судьба Польши, сдружившая три Двора, решилась наконец к посрамлению ненавиствующей нам Франции, которая, стремясь, сколько можно, нам вредить и помешать пиру нашему с Турками, ищет приключить нам новую войну с Шведами, способом тамо революции. Франция рада на сей раз и Швецию подвергнуть равному жребию с Польшею, лишь бы помешать тем миру нашему! Может статься, или, справедливее сказать, нет сомнения, что медленность Турецких полномочных для съезда на конгресс происходит от коварных внушений Франции, которая, конечно, питает Турков надеждою скорой революции в Швеции, и, следственно, новой у нас со Шведами войны. В самом деле, если удастся умышляемая революция, то и новая для нас война неминуема; но тогда за верное полагать можно, что Датчане вооружатся против Шведов, к чему и приуготовлять их поручается отправляющемуся на сих днях в Копенгаген, в качестве полномочного министра, г. Симолину, тому самому, который заключал перемирие. С глубочайшим почтением и сердечною преданностию.
В Петергофе, 4 Августа 1772.
P. S. Сей момент получено известие, что Турецкие Послы приехали и были у наших, а наши у них с визитами, и разменялись полномочиями.
Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
К величайшему моему сожалению, две почты сряду не имел я счастия писать к вашему сиятельству; одну, за случившеюся у меня головною болезнию, а другую, для того, что, получа известие о заражении Клина, не успел я решиться на способ, чрез который бы письма мои могли мимо Клина доходить верно до рук ваших. Сей способ теперь известен вам, милостивый государь, через письмо его сиятельства, братца вашего. Став таким образом уверен о безопасности переписки, которую инею честь вести с вашим сиятельством, продолжаю по делам мое доношение, но прежде, нежели начну оное, позвольте принести вам нижайшее мое благодарение, за два милостивые письма ваши, от 17-го и 24-го прошедшего месяца.
В ответ на первое из оных, не останется более, как токмо донести вашему сиятельству, что самый опыт доказывает справедливость ваших рассуждений. Зависть Венского Двора к успехам нашим есть очевиден; но не всякой зависти удается самым делом исполнять свои вредные желания. Может быть, не удается и сему гордому Двору положить преграду нашему вожделенному миру. По крайней мере кажется, что и самому Богу нельзя попустить, чтоб злоба торжествовала, а кровь невинных явилась. Что же надлежит до особы его сиятельства, братца вашего, то излишнее мне было изъяснять вам, все мое усердие к славе его, но не могу же, милостивый государь, то оставить без ответа, что вы мне сказать изволили, как брат его, и в самое тоже время, как беспристрастный человек. Без сомнения, больших людей честолюбие состоит в приобретение себе почтение тех, кои сами почтенны, и которых во всем свете, конечно, мало. Впрочем, хула невежд, которыми свет столько изобилует, не может оскорблять истинных достоинств, равно как и похвала от невежд цены оным не прибавляет. Сие привело мне на мысль два стишка г. Сумарокова, заключающие в себе сию истину:
Достоиной похвалы невежа не умалит;
А то не похвала когда невежи хвалят.
Дальнейшее происшествие известной вам визирской переписки оправдало совершенно благоразумное примечание вашего сиятельства, которое во втором письме вашем найти я честь имел. Из приложений, о коих упомяну я ниже сего, изволите усмотреть, что посланная с Ахметом бумага, кроме некоторого нам предосуждения, ничего не произвела. Здесь же, по сей материи, следует копия с письма графа Г. Гр. Хотя в самом деле, за будущее ручаться не возможно, однако Турецкое изнеможение, вступление Австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию, каким бы самодуром на конгрессе поступлено не было.
Вам, милостивый государь, из прежних писем моих уже известно мнение мое, о воздавании справедливости от публики великим людям. Сколь то правда, что беспокойство ваше, в рассуждении сего, происходить от нежности братского дружества; столь, если смею сказать, мало основательно сие беспокойство ваше, и потому одному, что вся Европа, не говоря уже об Отечестве нашем, знает, кто правит делами и кто мир делает. Словом, как бы фавер не обижал прямое достоинство, но слава первого исчезает с льстецами в то время, когда сам фавер исчезает; а слава другого – никогда не умирает.
XI. Начертание для составления Толкового Словаря Славяно-Российского языка
Толковый словарь Славяно-Российского языка должен содержать в себе по алфавиту, порядком этимологическим, все известные Славяно-Российского языка слова и речения, с истолкованием оных употребление и знаменования.
Из сего явствует, что в составлении Толкового Словаря надлежит принять во уважение: 1-е, выбор слов и речений; 2-е, граматическое оных употребление; 3-е, объяснение их знаменования; 4-е, порядок алфавитный. Здесь на каждую из сих четырех статей представляется особенное положение.
СТАТЬЯ 1-я.
О выборе слов и речений, долженствующих войти в Толковый Словарь Славяно-Российского языка.
Судя по существу слов и речений, составляющих собственно язык Славяно-Российский, не должны иметь в Словаре места:
1-е) Собственные имена людей, городов, морей и проч.
2-е) Все те названия технические наук, художеств и ремесл, кои, не находясь в собственном употреблении, мало известны, и одним только ученым, художникам и ремесленникам сведомы.
3-е) Все неблагопристойные слова и речения.
4-е) Все те иностранные слова, кои не вошли еще в такое употребление, чтоб объяснение их в Российском Словаре необходимо было нужно.
5-е) Как Московское наречие, не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты, прочим справедливо предпочитается {См. Грамматику Ломоносова.}, то провинциальные неизвестные в столицах слова и речение не должны иметь в Словаре места; ибо величина книги бала бы безмерная и для большей части Россиян бесплодна. Из сего правила исключаются те провинциальные слова и речения, кои силою к красотою могут служить к обогащению Российского языка.
6-е) Все длинные пословицы и присловицы, ибо оные особливый словарь составить могут.
СТАТЬЯ 2-я.
О грамматическом словоупотреблении.
По учинении выбора слову, надлежит поставить оное в Словарь тем правописанием, каковым пишется в церковных книгах и в лучших наших писателях. Сохранение правописание весьма нужно для того, чтоб не закрылись совсем следы произведение и сложение слов; в прочем полезно и потому, что некоторые слова весьма различного знаменование произносятся одинаково, и только по правописанию распознаются; например: слово мир, когда пишется чрез ми, значит тишину, когда пишется чрез мi, значит вселенную, когда пишется чрез м?, значит масть благоуханную.
По написании слова правильным образом, надлежит поставить ударение над долгим его слогом. Сие служит к правильному произношению, тем наипаче, что ударение часто составляют разность в самом знаменовании слова: например: образа, образа, полон, полон, мука, мука. При й кратком надлежит ставить обыкновенную скобку, дабы мой не произносить, как мои.
Потом, при каждом слове, надлежит означить, какую часть речи оно составляет.
При имени отметить, существительное или прилагательное; также падеж родительный; при первых, означить род и число, при вторых, равно как и при наречиях, буде уравнение неправильное, надлежит представить оное во всех степенях.
При местоимениях означать, какое-то есть: личное, или возносительное, и проч.
Глаголы ставить во всех неопределенных наклонениях, и означить залог, первое и второе лице настоящего, изъявительного, прошедшее простое того же наклонения; например: бросать, бросить, брасывать; действительное: бросаю, ешь; прошедшее: бросил. Равным образом замечать и все роды глаголов, как то: возвратительный, безличный, и проч.; или каким глагол падежем управляет.
При наречии, предлоге или междометии, надлежит означить, какой падеж принимают.
При союзе примечать, буде он после положительные, увеличительные и уменьшительные, яко производные, имеет место после своих коренных, и препровождается грамматическими примечаниями (?).
После сих частных наблюдений, остается при каждом слове различить:
1-е) Славянское ли оно, например: вещать, или российское, например: говорит.
2-е) Буде слово чужестранное, то какое, например: аминь еврейское, философия греческое, карандаш татарское, и проч.