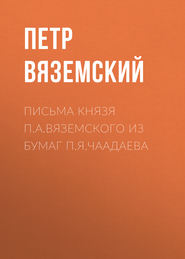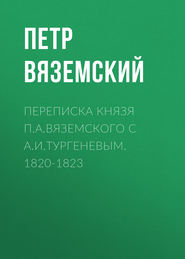По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1824-1836
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сейчас возвратился от Карамзина о был у него в спальней, в минуту его вставания с постели и одевания с помощью твердой, но беспокойной Катерины Андреевны. Потом виделся с Мюллером. Что сказать тебе? Приезжай! О средствах ехать с ними подумаем здесь: тут поспешность не нужна. В настоящем положении он выехать не может. От Бога зависит будущее. Прости, мой милый! Надеюсь скоро обнять тебя.
Кончина императрицы более тронула, нежели поразила его. Он говорил о ней с чувством умиления, по слабость спасла его от сильного потрясения. Прости!
702.
Тургенев князю Вяземскому.
Суббота. [Конец мая. Петербург].
В записках же Сергея черновых о том, что прислать ему, стоит и твой портрет. Желал бы показать тебе все это, но когда и как? Что из русских книг взять с собою? Запиши и пришли записку. Если Бог устроит судьбу нашу, то мы долго не воротимся, а на чужбине и дым отечества приятен. Получил милое письмо от Свечиной. Молодая Бобринская умирает. Мать графа Бобринского ездила с ней из Парижа в Женеву.
Если будешь писать к брату в*ь Дрезден, то пиши о себе, о Карамзиных и дай ему подробное описание, как они переносят свое несчастие и как умирал незабвенный. Успокоивай его и насчет брата Николая, сказав, что не так дурно кончится, как предполагали; в общих выражениях, что надобно еще лучшего ожидать от будущего, в коем слабеют предубеждения, и виновность уменьшается. Нужно, чтобы его душа была спокойнее. Опасаюсь действия печатных бумаг и окончания суда.
703.
Тургенев княгине В. Ф. Вяземской.
Le 14 juin. St.-Pеterebourg.
Je vous envoie une lettre de Wiazemsky. II est parti avec les Kar?msine hier ? quatre heures apr?s midi. Je les ai accompagnе jusqu'? la porte de la ville. Mercredi ils pourront ?tre ? Reval. Je suis restе seul ici, et Pеtersbourg pour moi est pire qu'un dеsert, car on ne voit personne sans un deuil et je vois ici tant de monde qui me rappelle mou malheur.
Je yous enverrai les еtoffes par la premi?re poste et par la premi?re occasion s?re. Adieu! Que Dieu vous conserve ainsi seule.
Votre А. T.
На обороте: её сиятельству княгине Вере Федоровне Вяземской.
704.
Князь Вяземский Тургеневу.
10-го июля. [Москва].
Твои вчерашния письма сильно огорчили нас, любезный друг. Не разгадываю их тайны, но догадываюсь. Повторяю одно: в жизни должно ценить и хорошее, и худое по сравнению. В самом горе найдешь ты побуждения к утешению, и многие должны еще завидовать тебе. Не романизируй в своей печали. Мы все изгнанники и на родине. Кто из нас более или менее не пария? А лучше же быть парией под солнцем, чем под дождем и снегом.
Жаль мне, что на такую разлуку не удается мне проститься с тобою, и не мог я быть при тебе. Был сердцем и помышлениями, а иногда и досадою, что ты на прозаическую беду смотришь поэтическими глазами. Надобно иметь для всего свое мерило, а не общее. Как наш академик – не академик. и так далее, так и то, что сокрушает тебя, было бы истинным бедствием не у нас, а где-нибудь виде. Успокойся духом; радоваться нечему, но цени, я сказал бы, свое неудовольствие, но ты скажешь: свое несчастие, по цене его существенной, а не вымышленной, не придаточной. Такое несчастие – ассигнация: оно имеет ход дома, но заграницами теряет всю свою цену и делается белою бумагою.
Пуще всего, застань брата Сергея здоровым; соединитесь вместе, и жизнь может вам принести еще несколько вкусных плодов. Плодов волшебных ждать уже нечего: пора их прошла. Драконы существенности поели все гесперидские яблоки нашей старины, и мы остаемся при одном яблоке, початом Евою, и, которого по сию пору не переварил еще желудок человеческого рода.
Встретишься ли ты где-нибудь с Жуковским? Обойми его сердечно за меня. Как и куда писать ему? Я все поджидаю письма, которое он, вероятно, напишет к Карамзиным. Надолго ли ос поехал?
Соберемся ли опять когда-нибудь вместе до общего сборного места? Но и тут радость встречи помрачится печалью поминок. Уж, я думаю, лучше не встречаться! Как мало единства, полноты во всех наших жизнях по одиночке и в товариществе! Мы все прожили и живем кое-как, клочками, урывками: пет общего центра. Посмотришь, в других землях в другие времена все были лучи одного светлого круга. Мы все разбросаны, и как жиды держимся только одною внутреннею верою, темными преданиями и каким-то чужестранством, чужеязычием в толпе, которая нас только что терпит; впрочем, вероятно, от того, что мы ее терпеть не можем.
Прощай, мой странствующий жид и брат по обрезанию! Желал бы где-нибудь и когда-нибудь встретить тебя, хотя прежде и отказывался от встречи, хотя и не на иорданских берегах, а где поближе: на берегах Сены или Темзы. Обними братьев за меня, когда соединишься. Я не писал, потому что писать было нечего, да и не на чем. при случае и в добрый или нужный час не откажусь. Прощай, любезный друг! Пускай целебный воздух, спокойствие и время замечать раны твоего сердца.
Люби и помни навсегда и всею душою тебе преданного Вяземского,
Приписка Е. Н. Карамзиной.
C'est du fond de mon coeur que je rеp?te les voeux, que mon oncle forme ici, et quand tant de coeurs, pleins de vive et de sinc?re affection pour vous les adressent au ciel, cher monsieur Tourgueneff, espеrant qu'ils seront exaucеs, et qu'apr?s toutes les еpreuves que vous avez subies pendant votre sеjour a Paris, vous go?terez encore de bien douces jouissances: une fois rеuni ? vos fr?res, еloignez le passе, ne fut ce que pour quelques instants, et donnez-vous tout entier au bonheur du revoir sur cette terre! C'en est un bien grand! Nous qui l'avons perdu, nous pouvons vous le dire.
Adieu, cher et bon monsieur Tourgueneff, en oubliant vos peines (si vous le pouvez) pensez toujours ? celles qui les partagent sinc?rement et qui sont impatientes de vous savoir plus tranquille, plus heureux. C. Karamsin.
705.
Тургенев князю Вяземскому.
26-го июля. [Петербург].
Не могу найти Норова; и сундук, и пакетец твои еще у меня. Где он? О колясках сегодня велю выправиться. Журналов оставить у тебя не могу. В них документы для моего журнала, в котором беспрестанные на них ссылки; ибо они заключают все время моего пребывания в Париже и Лондоне. Отошли их к Жихареву. Может быть возьму их и с собою, ибо собрать их и в Париже невозможно. А кто знает, может быть и я еще оживу для прошедшего. Пожалуйста, не затеряй! Прочти и скорее пришли!
Прости! Что-то не можется и писать нет духа. Пусть Жихарев сам пишет к тебе о деле твоем касательно выдачи денег на строение дома в Москве. Пиши к Сереже и к Николаю. Я в последнему не писал ровно месяц.
1827.
706.
Тургенев князю Вяземскому.
10-го марта 1827 г. Дрезден.
Письмо твое от 6-го января получил, но без приложений; они пришлются после. Я давно начал к тебе письмо, которое могло служить оправданием на твой, впрочем справедливый, упрек в безмолвии нашем о Карамзине. Я написал защиту его, против лейпцигского рецензента восьми частей немецкого перевода «Истории Государства Российскаго», в котором переводчик сделал анахронизм восьми столетий. Рецензент приписал оный автору. Я доказал по оригиналу, что соврал переводчик, но что историограф не только не мог ошибиться так грубо, но и с величайшею подробностью объяснил эпоху, в незнании коей его обвиняют. Отвечал и на некоторые другие замечания рецензента. Хотел дослать все в немецкую «Литературную газету», но, получив твое письмо, передумал, желая напечатать ответ мой прежде у тебя. С тех пор – горе и хлопоты и беспокойство от неполучения ни строки от Жихарева, о коем не знаю даже приехал ли в Петербург, ибо только от Федора Дмитриевича получил письмо о его выезде из Москвы. Сережино положение лишает меня духа заниматься серьозно чем либо иным, кроме моего несчастья. беспокойство мое менее за Сережу, нежели за Николая, который, в счастию, ни о чем не знает. Недель через пять отсюда выедем, вероятно вместе с Жуковским, на Лейпциг в Париж; оттуда еще не знаю куда, но постараемся укрыться от жаров и не быть в уединении, которое без Жуковского будет опасно. Его присутствие для нас благодетельно; без него одному мне тяжело будет. Поблагодари милую княгиню за письмо её к Пушкиной. Я всегда знал и чувствовал, что вы меня любите; по новое уверение всегда как-то приятно, а в моем положении и утешительно. Напрасно пеняет за письма: разве то, что пишу и посылаю к Жихареву не для вас так же, как и для него? У меня давно и для княгини книжки, но посылаю только возможное. И теперь разделил на два пакетца: в одном это письмо и две тетрадки, в другом два тома Огинского, из коего много можно взять для журнала. С твоею оказиею пришлю для детей того же автора, что послал к Жихареву.
Близь Голицын получил вчера письмо от князя Василия Гагарина из Италии. Мое письмо везет граф Хвостов. Не знаю, все ли возьмет и не смею и не могу теперь послать, ибо вчерне написано, с попутчиком, хотя бы и кстати было, письма на рецензию немецкую; пришлю после, выкинув ученость, неуместную для русского журнала; для немецкого – иное дело! Но имени нигде не должно быть.
Сию минуту прочел в «Morning Chrouicle», от 27-го февраля, статью, которую бы желал целиком перенести для тебя. Выписываю существенное; употреби в дело, если не поздно будет. Наконец Вальтер Скотт объявил себя автором своих сочинений, единственным – «total and undivided author» – в статье «Утренней Хроники»: «Interesting theatrical diuner», под особым заглавием: «Public avowal by sir Walter Scott of being author of the Waverley Novels». Известие сие взято сокращенным образом из «Эдинбургской Газеты», но и в сокращении оно занимает полторы колонны длинной английской газеты. Все происходило за первым годичным обедом эдинбургского театрального фонда, то-есть, вероятно, суммы, на которую содержится эдинбургский театр. Walter Scott председательствовал за обедом, то-есть, был Chairman, который обыкновенно для возглашения тостов (здоровья) выбирается на весь обед. Это называется быть на кафедре, to be in the chaire. The cloth being removed, то-есть, когда скатерть со стола снята, и дамы удаляются, а остается на столе одно вино и рюмки, и за самою полною чашею, так как предложил Walter Scott, восхвалял он драматическое искусство. По словам Walter Scott'а оно было первым наслаждением его детства, и любовь к сему искусству росла вместе с ним, and even in the decline of life, nothing amused so much as when а common taie is well told. Walter Scott пробежал вкратце в речи своей историю драматического искусства у древних и новейших народов; осуждал века, в которые оно было презираемо и в гонении, даже и от законодателей; но это, по его мнению, было тогда же, когда и духовенству запрещено было жениться, а мирянам читать Библию. Упомянул о каждой блистательной для театра эпохе, в особенности и о том, чем и кем каждая отличалась, и кончил тостом за «theatrical found». Гости (convives) отвечали троекратным и трижды повторенным криком: «With three times three!» Когда присутствовавший за сим же обедом лорд Meadowbank, желая отплатить Вальтер Скотту за тост в честь театральной компании, провозгласил здоровье «of the great unknown», как обыкновенно Свотта называют, он сказал в речи своей между прочим, что он предлагает тост «for the great unknown, the mighty magician, the miustrel of our country (в сию минуту восклицания и ашлийское ура огласили всю залу) who had coujured up not the fantoms of departed вges, but realities», и кто «now stands revealed before the eyes and affections of liis country». Вальтер Скотт отвечал ему и между прочим сказал:
«He was now before the bar of his couutry, and might lie understood to be on trial before lord Meadowbank as an offender; yet lie was sure, that every impartial jury would bring in а verdict of uot proven. He did not now necessary to enter into the reasous of his long silence. Perhaps lie might have acted from caprice. He had now to say, howewer, that the merite of these works, if they had any, and their faults, were entirely imputable to himself (long and lound cheering). He was afraid to think on what he had done; «Look on't again, I dare not».
«Не had thus far unbosomed himself, and he knew that it would be reported to the public. He meant, when he said, that lie was the author, that he was the total and undivided author. With the exception of quotations, there was not а single word that was not derived from himself, or suggested in the course of his reading. The wand was now broken, and the rod buried», – все это слова Вальтер Скотта. Теперь будут его называть и провозгласили: The great known. Вели себе изъяснить выражения: trial (допрос пред судом), not proven и т. п., и цитату: Look оп't и т. д. и переведи хорошенько. Жалею, что не успел более выписать.
Узнав, что граф Хвостов поедет отсюда на долгих или, по крайней мере, долго пробудет в дорогах, пошлю письмо по почте, а книжки с ним. Жаль, что не вместе, ибо брошюра о Тальме и афишка и билет, приглашающий тебя в благотворительный здешний спектакль, было бы кстати к обеду театральной компании.
У меня было много проектов писем к тебе; например, о лекции Гассе, с посылкою целой лекции о следствиях христианской религии и о вступлении из древней в новую историю. Перепишу и пришлю с оказией; но ответ на рецензию занял меня, а горе и беспокойство отвлекли и от него. На свет Божий, который у нас опять расцвел, смотреть не хочется. Описал бы и пари здешних модников. Один бился об заклад, что проедет час по улицам в санях (NB у нас лето или весна) с помпою зимнею, но пробил. Другой, первый дрезденский fashionable, барон Мальцан, бился за сто луидоров, что один месяц и один день будет ходить всюду в розовом платье, в розовых сапогах и в розовой шляпе или какого другого цвета по назначению противной стороны. Завтра выезжает в свет в сем наряде, но жена его, англичанка, не очень довольна сим нарядом. Будет на всех вечеринках и у себя всех принимать в сем наряде, и даже шлафрок розовый. Все наряды его на счет другой партии, если он условленное время выносит, не надевая ни платка другого цвета.
Сережа хотел написать для тебя статью о Вальтер Скотте; начал, по не успел кончить и приложит к книгам. Голова его еще слаба. Не могу смотреть и думать о нем без тяжелой грусти. Один он меня беспокоит за будущее; в другом отношении спокоен, как- праведник. Верьте мне, я спокоен, и вы бы были на моем месте. Но чем возвратят нам здоровье?
Уведомьте поскорее о Жихареве. Для дел это великую разницу нам составляет; но об этом я не думаю, лишь бы он был здоров. Не постигаю его молчания. Дай ему знать о моем беспокойстве и скажи, что и от княгини Репниной ни слова, а деньги её нужны тому, у кого она заняла их и в какое время: неаккуратность!
Книги вытребуй от Булгакова. Я все посылаю на твое имя, надписав твое имя на книгах, а на пакете его адрес. Напиши я к Карамзиным. Почему не пишу к ним? Грустно, но думаю о них беспрестанно. Пусть прочтут мою любовь с ним и к незабвенному в моем ответе на рецензию. В какие минуты я думал о его исторической безгрешности: когда вся душа паполнена была страхом, и я трепетал не за себя, не получая долго ни откуда писем и по сию пору от Жихарева. Простите! Кланяйся И. И. Дмитриеву.
Брат не посылает своей статьи, ибо не успел кончить ее. Жуковский здоров, но теперь занят, Батюшкову не лучше. В морозы наши было ему хуже. Пушкина будет отвечать сама. Попроси Карамзноых, чтобы писали ко мне. Обнимаю тебя, княгиню и детей. Дайте знать обо мне Жихареву и о моем мучительном беспокойстве, а чрез них и Нефедьевой. Давно ни от кого ни слова; только парижские приятельницы не забывают меня. Дайте знать Жихареву, когда выезжаем из Дрездена: через пять недель. Напишу ему о присылке денег может быть прямо в Париж, если прежде ничего не получу от него. Граф Хвостов не взял Огинского, а только брошюры.
Выпишу еще, что успею, из статьи о Вальтер Скотте. После тоста первого, в честь короля и второго, герцогу Кларенскому, the chairman Walter Scott предложил тост оплакиваемому всеми Иоркскому герцогу, «which he wished to be drank iu solemn silence»; он уделял досуг свой театру; в память его выпито в торжественном молчании. Потом уже Walter Scott предложил: «That gentleman would fill a bumper as full as it would hold», и тут говорил ос о театре во все времена. Pendant к сей речи можно разве найти в прологе Шиллера, напечатанном перед «Валленштейном», об искусстве мимики и в предисловии Тальмы к Левеню. Лорд Meadowbank, в исчислении заслуг «Walter Scott'а, сказал: «It lias been left for him by his writings to give his country an imperishable name. He had done more for his country by illuminating his aimais, by illustrating the deeds of its warriors and statesmen, than any man that ever existed or was produced, within its territory. He lias opened up the peculiar beauties of this country to the eyes of foreigners. He has exhibited the deeds of those patriots and statesmen, to whom we owe» etc.
Не знаю, разберешь ли все, что я в заключении письма выписал о Вальтер Скотте в пополнение статьи; но все это русские могут, должны сказать о Карамзине, и я сказал.
На обороте: А monsieur, monsieur le prince Pierre Wiazemsky, ? Moscou (Russie). Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Москве, в Чернышевом переулке, в собственном доме.