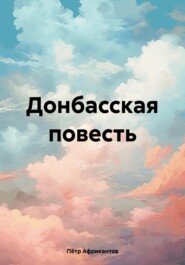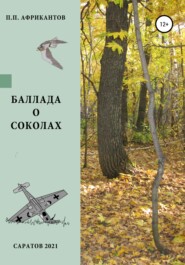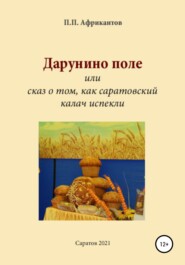По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саратовские байки об игрушке, гармошке и калаче
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказчик улыбнулся.
– Нет, было совсем не так. – Отмёл предположение Иван Иваныч. – Играл, конечно, Михаська и на свадьбах и на других гуляньях, только денег он за свою работу не брал. В этом-то и вся заковыка. Профессия у парня была не денежная и не привлекательная. Пастух есть пастух. А ведь мог бы с кнутом по лугам в дождь и ветер не ходить, одной бы игрой на гармошке зарабатывал гораздо больше. А он нет, как пас, так и пас. Из-за этого у них с Полюшкой и разногласие вышло. Девушка считала, что каждый труд должен оплачиваться и его игра тоже, а Михаська по-другому думал: «Работа делу рознь, – говорил он. Работа для пропитания, а дело для услады души. Вот моя игра – есть дело, и я не хочу даденный мне божий дар превращать в работу».
– Это он зря так, – возразил Степан. – Любой труд должен вознаграждаться… А как же. На этом мир стоит – потрудился – получи…
– Давай, Иван Иваныч, сказывай дальше. А ты, Степан, свои замечания потом выскажешь. – Осадил его Гришка. – Дай дослушать.
– Да я что… Попросите продолжить – продолжу. Скажете «замолчи» – замолчу. – проговорил рассказчик. Он немного помолчал и заговорил снова.– Это дело с вознаграждением не так просто решалось. Полюшка на своём стоит, а Михаська на своём – не буду, – говорит, – божий дар с яичницей путать.
– Почему с яичницой? – спросил Гришка.
– Потому и с яичницой, что она идёт на усладу живота, а не духа, – пояснил бригадир. Потому и пословица такая в народе родилась, как не путать божий дар с яичницей. Пословицы тоже на пустом месте не рождаются.
– Не знаю как там у Михаськи, а я как поем яичницы, так у меня душа больше брюха радуется, – весело проговорил Гришка. Все засмеялись, а Иван Иваныч своё слово в строку вставил:
– Молодой ты ещё, Гриня, не понимаешь. Михаська из высших соображений за игру плату не брал, потому как считал музыку делом божественным. Ведь он как научился играть- то? Повторяю: Бабушка Федора сказывала, что играть он научился – пока шёл из города в Сельцо. Вот так. Шестьдесят вёрст прошёл и в деревню вошёл уже состоявшимся гармонистом.
– Твоя правда, – подытожил возникший спор Степан. – Другие гармонисты годами меха мурыжат, а такой силы игры не достигают. Играют, конечно, деньгу берут, потому как это у них и есть работа, а Михаська никогда свою игру работой не называл. Может быть потому и не называл, что чувствовал в себе её божественное происхождение.
– Верно понял, – хвалебно сказал бригадир. – Так оно и было. Не каждый достигает тех вершин. Ведь прежде чем взять гармонику в руки, тягу в себе к ней надобно ощутить. В душе у человека должно быть для этого божьего дара место приготовлено. И не где-то на кухне, или в сенцах человеческого тела, а в его красном углу. То есть в сердце. Например, к тебе человек в гости идёт, разве ты не позаботишься об угощении и постель ему не приготовишь, если он не на один день приходит!? Это ты для человека обязательно приготовишь, для твари земной. А тут речь идёт о даре божьем. Для дара место по-иному устраивается. Покажу на примере. Спрошу! Люди в деревне Михаську любили? Любили. Стало быть чувствовали его душу и его неотмирность тоже чувствовали. Михаська три шкуры с сельцовских за пасьбу драл? Нет, не драл, а бывало и бесплатно бурёнку неимущей бабке пасёт. Вот так и место в душе приготавливалось… Добрыми делами. По-другому это место не обихоживается.
– Что не возьми в жизни человеческой, всё к нему самому сводится, к душе и сердцу, – вставил Пахом.
После его слов разговор на время затих. Видно, каждый думал о своём. Летняя тёплая ночь к тому располагала. Чуть потянул ветерок. Он как ласкучий, игривый котёнок покрутился возле моих ног, прыгнул на колени, поиграл пальцами рук, встал на задние ноги, достал ушками до подбородка и потёрся головой о шею, приятно пощекотав кожу.
«Осталось только помурлыкать» – подумал я и улыбнулся ласкам ночного гостя. – А, в общем, он такой же, как и я, странник, прибившийся к теплу и доброте. Все мы под этим звёздным небом странники: и летающая ночная птица, и ветерок, и я, и пастухи, и даже всполохи на горизонте. Все мы любуемся друг другом, все мы друг другу непонятны, и в тоже время так бескрайне близки и притягательны. Слава Тебе Создатель за то, что мы есть, что есть этот костёр, этот ветерок, эти мои собеседники и пёс, что подошёл к костру и принюхивается к оставшемуся вареву.
– Как остынет – налью и тебе, – сказал Степан Бутусу.
«Прелестно Бутус! Прелестно. Как всё это бесконечнодорого и бесконечно мило: лохматый Бутус у костра, потрескивающие в огне полешки, мой лекарь Степан с огненно-рыжей бородой, склонивший голову Пахом… – продолжал удивляться я.
В общем, я немного расслабился. Вон Иван Иваныч принялся крутить вторую козью ножку. Сейчас он возьмёт горящий прутик, прикурит и начнёт рассказывать дальше. Так оно и есть».
– В этом деле не только Полюшка была задействована, но и мелкопоместный молодой барин Евсюков, – продолжил рассказ Иван Иваныч. – В простонародье барина звали просто Евсюк. Барин Полюшку любил, девчина к Михаське тянулась, но и Евсюка особо не отталкивала. Евсюк к Полюшке приступом, а та лукаво ему говорит: «Научишься на гармошке с колокольчиками играть, вот тогда и посмотрим». Нравилось ей, что он грамотен, в обращении деликатен и собой недурен. Только вот чего в тех речах у девчины больше было, то ли действительно расположение или желание поводить барина занос, кто знает?
– Девки это могут, – поддакнул Гришка, – сам знаю. По собственному опыту.
– Нечего было ему глазки строить. – Буркнул Пахом. – Одного любила, а другого тоже далеко не отпускала. Так оно и выходит. От этих баб одни беды да происшествия, – и нервно сплюнул.
– Может быть она думала, что таким образом отвадит Евсюка, не будет барин учиться на гармошке играть? Только промашка вышла, – предположил Степан.
– Может быть вы и правы. – Продолжил рассказчик, – Евсюк гармошку купил, в Саратове учителя нанял, ну и давай аккорды разучивать, да левую клавиатуру с правой в игре соединять. – Надо барину отдать должное – ученик он был настойчивый и с неплохим слухом. Одолел барин гармошкину грамоту и снова к девчине.
Тут рассказчик выдержал паузу, откашлялся и продолжил:
– Может быть оно и так, только в этом деле другая история вышла. А как ты, Пахом, дело видишь, так это совсем несложно. Евсюк же решил не просто научиться на гармошке играть, а обязательно переиграть Михаську. Упорный был и завистливый. Ему было мало – просто освоить игру. Ему надо освоить инструмент так, чтобы и коровы на его игру шли, как у Михаськи, и чтоб люди его игрой восторгались, бабы чтоб с удовольствием плясали и припевали под его музыку.
Если с людьми у него всё было в порядке, то с коровами не очень. Не внимали Красотки и Малинки Евсюкову искусству. Он даже утром на околицу приходил и гармонь растягивал, только у него ничего не выходило – коровы никак не шли на его призывные аккорды. Когда же их просто хозяйки провожали за околицу, то бурёнки шли мимо и даже голову в сторону играющего Евсюка не поворачивали, будто его там и не было. С этим Евсюк уже ничего поделать не мог. Тут всё как на ладони, Михаська заиграет – коровы около него. Евсюк гармонь растянет – никакого внимания. Мало того, одна корова даже вознамерилась боднуть рогами гармониста. После этого случая барин уже таких экспериментов не ставил.
– Вот ведь какая умная тварь эти коровы… – изумился Гришка. – Коровы, коровы, а чувствуют разницу и фальши не терпят.
– У них уши большие, – брякнул Степан то ли в шутку, то ли всерьёз.
– Видно, они не только ушами на музыку реагируют, но и всем нутром. – Сказал Пахом.
– По-твоему и рогами тоже? – подсмеялся над Пахомом Степан. Потом резко оборвал смех и добавил. – А если серьёзно, то они не фальшь улавливали. Думаю, что Евсюков играл хорошо. Они тех ноток любви в его игре не чувствовали. А тут, как правильно не нажимай на клавиши, результата не будет.
– Знак это тебе был на холме. – Как пить дать, знак, – сказал, щурясь мне в глаза, бригадир. – А уж, что за знак и как им распорядиться, дело твоё. Я же доскажу, раз начал:
Люди в странном видении на холме усмотрели, как Михаська не просто играл, а играя, ходил и в лица девушкам заглядывал, вроде как искал кого-то, а не узнавал. А девушки его спрашивают, кому он в лицо заглянул – «Не я ли?», «А может быть я?» И тому есть объяснение. Полюшка то от него отступилась и к барину ушла. Они обвенчались и тут же уехали то -ли в Москву, то- ли в Питер.
– Эка беда! Бросила… – зло сказал Пахом, – девок полна деревня. Выбери себе по душе и всё тут.
– А ему другой было не надо. Он эту девчину любил. – Вставил Гришка. – Продолжай, Иваныч.
– Так-то оно так, – рассказчик покрутил ус, – для одних это просто, а для других нет. После Полюшки Михаська уже ни с кем из девчат не встречался. Скажу больше. Люди стали замечать в поведении своего пастуха разные странности, вроде как с головой у него что-то не так стало. По Сельцу ходит и встречных спрашивает: «Вы Полюшку мою не видели? Здесь Полюшка не проходила?» и тому подобное. Одним словом – видно тронулся парень. Но это только досужие разговоры. Одни говорили, что тронулся, другие в это же время это отрицали. А вот то, что он каждый день на холме в саратовскую с колокольчиками наигрывал, это верно. Бывало так жалостливо играет, что душу рвёт, а у иных слёзы текут.
– Вот потому он и заглядывал в лица, свою ненаглядную искал, – выдохнул Гришка.
– Чем же всё это кончилось? – спросил я.
– Чем, чем? – Встрепенулся Иван Иваныч. – Кончается это всё смертью, конечно. Чем же это всё может кончиться!? Ей, милой.
– Что? Просто пришёл домой, лёг и умер? – требуя уточнения, спросил Пахом.
– Можно сказать и так. Только он не в доме умер, а на холме. Просто умер, тихо.
– Как? Совершенно здоровый человек, пришёл на холм, поиграл на гармошке, лёг и умер?! – Не сказал, а буквально выкрикнул Гришка.
– Да. Как ты, Гриша, сказал, так и произошло… Поиграл и умер. – Подытожил бригадир. – Сердце не смогло выдержать этого…
– Любовь у них такая была невзаимная. – Прохрипел Степан. – Зачем ей идти за пастуха, когда рядом барин копытом бьёт.
– Не скажи… – Федора говорила, что Полюшка через пару лет после смерти Михаськи приезжала, побыла на его могилке, погрустила, поднялась на холм, положила там цветы, постояла со скорбно склонённой головой и уехала. Значит, чувствовала и она, что потеряла… Не могла не чувствовать, иначе бы не приехала.
Какое-то время сидели молча. У каждого из головы не выходила эта история. Круглолицая луна скупо освещала, изрезанную оврагами местность, серебря лица и выдёргивая из темноты корявые стволы одичавших яблонь и высокие остовы высохших груш. Это всё, что осталось от былой деревеньки. Обвалившиеся погреба и подполья, некогда стоявших здесь домов, густо поросли высокой крапивой и чернобылом. Кажется жизнь здесь замерла, остановилась. Но, это не так. Через целые столетия донёсся до меня голос эпохи о которой можно, разве что, прочитать только в учебниках истории. Но, даже в учебниках истории о том, что я услышал и увидел на холме вряд ли напишут. Это, как теперь говорят, не формат. Это удел не серьёзной прессы.
Нарушил тишину Иван Иваныч:
– Когда покойный Михаська в переднем углу лежал, люди слабое звучание саратовской гармошки слышали. Главным же чудом было – после его смерти то, что холм заиграл. В деревне стало традицией во время бракосочетания молодым на этот холм приходить. В начале приходили, потом стали на тройках приезжать… Если молодожёны на холм приходят, то слышат, как саратовская гармоника с колокольчиками играет. А иногда молодые видят самого Михаську с гармошкой. Тогда его люди ещё помнили и могли распознать. Наиболее смелые из молодых на холм взбегали, когда Михаську видели, да только не прикоснуться, ни поздороваться с ним не могли, потому как проходили сквозь него руки. Потом это стало затухать. Редко уже кто мог сказать, что слышал игру на Михаськином холме или кому Михаська показался.
– А сейчас кому показывается? – спросил Пахом.
– Нет, теперь никому не показывается, одну музыку люди иногда слышат. И то, если Михаське пара, что пришла на холм, мила.
– Как это мила? – спросил Гришка.
– Мила – это значит, что молодые не по расчёту сходятся, не по принуждению, или ещё почему, – пояснил я.