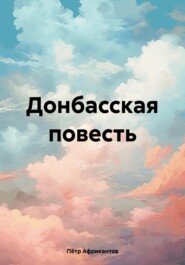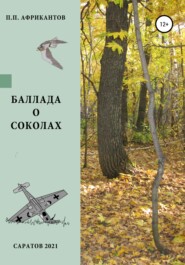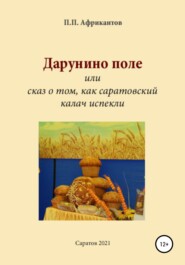По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дальше шли молча.
____________
Самое малоизменчивое место любого селения – кладбище. Вот и это деревенское, приютившееся у Нашего леса с местным названием «Тарны» обдало нас какой-то забытой патриархальностью. На крестах и памятниках знакомые фамилии: Ивлиевы, Африкантовы, Ефремовы, Смысловы, Пахомовы, Егоровы, Сергеевы, Харьковы. Представители каждого деревенского рода навечно прописаны в этом уютном и тихом месте. Георгий остановился около единственного на кладбище мраморного памятника, вслух прочитал:
Он добрый был, любил Россию,
Косил луга, которые вокруг,
Ещё любил и холил ниву
И был прекрасный муж, отец и друг…
Это военное ведомство отцу поставило, – сказал я, – не смотрится оно здесь среди будылей. Здесь одному дубовому кресту место.
– А стихи, конечно…– и Георгий посмотрел на меня выразительно.
– Стихи эти можно написать на каждом здесь уцелевшем кресте. Это было у усопших основное в жизни занятие, – сказал я.
Ниже кладбища, метров за сто, глиняный карьер. Трава по пояс. «Это поле от деревни до кладбища называется «Тарновский столб»,– поясняю.– Вряд ли кому теперь нужно это название…»
– Что так?– спросил Георгий.
– Тот, кто это поле приобрёл, тому без надобности, своё название придумает. Это поле и на той стороне речки поле, чуть наискосок, «Сто гектар» называлось, были лучшие поля нашей бригады.
Георгий шагнул в борозду оставленную плугом «Кировца».
– У нас в Сибири земли рыжие, глинистые, а здесь чёрные. Вон, борозда почти по колено, а земля всё чёрная, в Сибири не так.
– Это, дорогой, и есть чернозём. Воткни сухую палку, да полей, она милая и листочки распустит. На этом поле в кукурузе лошади терялись.
Георгий покачал головой. Он не мог понять, почему его прадед поехал с такой земли в Сибирь, что его туда погнало?, где и погода суровее и земли плоше…. Сегодняшнему поколению этот порыв почти непонятен.
Пока мы на этот предмет рассуждали, дошли до глинника. Я был обескуражен – куда девались глинные ямы с многочисленными подкопами и горками выброшенной породы. Всё стало неузнаваемо. Земля и время загладили былые шрамы и, если бы я не знал, что здесь всё это было, то ни за что бы ни поверил, место было сглажено дождями и ветрами. На месте глинища, покачиваясь от налетавшего ветерка, стоял высокий прошлогодний рыжий бурьян. Я посмотрел на ненужный детский совок, которым я намеревался набирать глину. Здесь нужен был не совок, а острая штыковая лопата, чтобы добраться до относительно чистого слоя. Помощь пришла совершенно неожиданно, выручил житель подземного царства – господин крот. Чуть пониже, по склону он столько оставил куч чистой отборной глины, что мы без труда наполнили ей свои мешочки.
Конечно же, я не удержался от искушения опробовать глину на месте. Тут же, взяв немного глины, перемял её с водой, получил кусок отменного лепного теста. О-о-о! Это была чудесная лепная глина. Она легко деформировалась в пальцах, была эластичной, мягкой и лёгкой. Эту её последнюю особенность – лёгкость, отметил и Георгий: «Я тебе как печник скажу – у нас я таких лёгких глин не встречал. Отвезу Ксюше, она лепит, пусть сравнит».
Солнце клонилось к закату. Ноябрьский день угасал, надо было поторапливаться. На выгоне за деревней хотелось набрать ещё светло-коричневой глины. Удастся ли её там набрать и вдруг я поймал себя на мысли, что втайне рассчитываю на крота и даже подумал: «Выручит опять крот, то это не простое везение, таких совпадений не бывает». И что же вы думаете – опять выручил, подземный бродяга. Правда, из многих кротовых куч нам попалась только одна с чистой глиной. По всей видимости, в этом месте животное устроило себе продуктовое хранилище. Такие хранилища они закладывают гораздо глубже, чем роют ходовые норы, вот, роя подземную кладовую, и добрался землекоп до материкового пласта глины.
В деревне мы наскоро пообедали на большом круглом кузнечном камне, что служил для ошиновки деревянных тележных колёс.
– Как вижу у вас и кузнец свой в деревне был,.. – не спросил, а просто сказал Георгий.
– А как же,– ответил я, – не просто кузнец, а непревзойдённый коваль, дядя Митя Сергеев, за двадцать вёрст к нему лошадей ковать водили.
– Где ж он такой грамоте обучился?
– В армии службу проходил в конном полку, там этим занимался. Дом его тут же стоял. Вот около этих кустов сирени. А потом кузню новую выстроили, около пруда. Я эту, вот здесь, кузницу едва помню, а в ту частенько бегали посмотреть, как железо плющится и искры сыпят из-под кувалды. Царствие ему небесное, нет его уже на этом свете. А за его домом, двухэтажный дом твоего прадеда Николая Илларионовича стоял. Он волостным старшиной был. Отсюда и в Сибирь подался.
Изменчивая ты осень ноябрьская… ох, изменчивая. Только, простившись с деревней, перешли через речку, и пошли по краю Ущельного оврага в сторону шоссе, как налетел, откуда ни возьмись ветер, закружил над головой листву, понёс её, пряча по распахам и чернильным со стальным глянцем отвалов, бороздам; сразу стало темнеть и, неожиданно появившаяся из-за Своего леса кургузая, непричесанная туча накрыла нас крупным крепким едучим ливнем. В спину барабанило так, будто хотело через намокшую куртку выдубить кожу. Косотелые испуганные облака, как стайка ворон, гонимые ветром убегали от тучи куда-то вбок к Фёдоровке, деревья наклонились, скрепя и всхлипывая.
– Откуда что взялось, – проговорил Григорий, отжимая внизу штанины, когда короткий, но жёсткий ливень закончился.
«Даже местность не хочет расставаться с коренными её жителями, оплакала, как оплакивает нерадивых своих детей мать, провожая в неведомый путь.– Подумал я. – За непослушание вначале настучала по спине маленькими материнскими кулачками, да села средь лугов и полей и безутешно заплакала, роняя на распаханную землю струйки пресных обильных слёз».
Мы спустились от «Первой ямы» к шоссе и только ступили на асфальтовую твердь, как нас накрыла, сползшая с горы темнота. Мы едва различали друг друга в пенистом фиолетовом сумраке. Ветер усилился, в отдалении по шоссе скользили огоньки идущих машин.
Вскоре подошёл со стороны Полчаниновки «Пазик». Мы с удовольствием спрятались от ветра за его обшивкой, устроившись на одним из сидений. Через несколько минут впереди расплывчато замаячили огоньки Фёдоровских улиц, затем показались дома. Редкие на столбах электрические фонари, раскачиваясь, смазывали правильную картину уличного порядка. Более того, они, раскачивающимися жёлтыми пятнами безжизненного света, раскачивали и дорогу. Неуютно, зыбко, печально, зябко. За окном ни души.
– Это и есть Фёдоровка?..– спросил Георгий.
– Да… Точнее – это «Серафимовка»,– заметил я. Если наша деревня делилась на три части: «Загорную», «Улицу» и «Вылётовку», разделённые овражками, напоминая внешними очертаниями сапог. А здесь не так. Если взглянуть на Фёдоровку сверху, то мы увидим гусиный клин, одна из сторон которого и есть «Серафимовка», а другая – «Грачи». Передним же углом его можно назвать «Бутырки». Я в Большой Фёдоровке учился, а в «Серафимовке» жил на квартире. Вообще, село расположено по речке «Большой Колышлей». Здесь река берёт своё начало, рождаясь из двух рукавов, по берегам которых и стоят улицы и переулки, отсюда и клин гусиный, или просто летящая птица. Насколько уцелела эта птица сейчас – не знаю. «Серафимовка цела, а вот «Грачи» или «Бутырки», неизвестно.
– А почему такие названия – «Бутырки», «Серафимовка»?
– В Большой Фёдоровке не один барин был, а сразу несколько. У каждого свои крестьяне. Одним из них был статский советник Бутягин (Бутыгин) Евграф Степанович. Он В 1858 году имел 500 крестьянских душ, богатей. Видимо, слово, означающее фамилию, трансформировалось в «Бутырки». А «Серафимовка» по барыне Серафиме названа. Её отец Василий Протопопов в 1850 году имение своё между детьми Дмитрием, Юлией и Серафимой разделил. Серафиме достались крестьяне в Большой Фёдоровке по этой улице. Отсюда и «Серафимовка». Вот так оно и складывалось.
Я всматриваюсь в окно, в качающихся разводах мутного фонарного света промелькнул дом Шухровых, затем дом Барсуковых, Маркеловых. Около магазина тускло светит фонарь, изливая в липкую и холодную темноту желтушный с фиолетовыми разводами свет. Его ершистые, встрёпанные лучи, точно осенние мухи, вяло разлетаются в разные стороны и, отлетев сажени две-три, тут же пристают крыльями к липкой тёмной вечерней занавеси. Неряшливая темнота тут же высасывает из них последние силы и сбрасывает на землю, усеивая холодным тлетворным мерцанием опавших крыл иссохшие травы. Тоскливо, неуютно, томно.
Достаточно быстрая посадка в автобус и снова в путь. На обратном пути мы уже видим редко освещённые дома другой стороны улицы. Я толкнул Георгия локтем и кивнул за окно:
– Вот дом, где я жил на квартире. В нём и сейчас живёт моя тётка, Мария Ивановна. А Братка, так мы её мужа звали, его уже нет. Помните, я показывал его фотографию, в форменке. Он нашёл на месте сломанного нашего дома в Малой Крюковке глиняные свистульки, с формочками. Баню строил, на каменку понадобились камни- песчаники, они жар хорошо держат. Эти камни в деревне в фундаменты закладывают. Так стал он из фундамента, оставшегося от родительского дома, эти камни выбирать, а игрушки и вывалились. Только в то время никто этому никакого значения не придал, потом вспомнилось.
– Ты это уже рассказывал…
– Правда?!
– А что ж ты не напомнил?
– Зачем? Человеку приятно вспомнить прошлое… Пусть вспомнит. Ты скажи, отчего он умер этот родственник?
– Поперхнулся…. А, в общем-то, и зелёный змий виноват тоже. А был душа-человек, таких людей мало.
– И чего её стали так пить? – сердито проговорил Георгий. – Безысходность что ли заставляет?
– Думаю, что русский человек пьёт не от безысходности и беспросветности, как эта деревенская тьма за окном, не от тяжёлых и невыносимых условий быта и обстоятельств – ему к этому не привыкать. У нашего мужичка жизнь никогда не была радостной и сладкой. Прикладывается же сейчас он к рюмке потому, что, положенный в его душу Творцом идеал, отуманился и уже у многих не имеет такого ясного и чёткого очертания, какой имел в стародавние времена. Насильственное обезбоживание тоже нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому и мечется его душа в поисках утрачиваемого смысла существования. Озарит на какое-то время – и снова нет. Вот и получается: ещё не до конца истёрто в душе предначертание, а, в то же время, идёт явное нашествие сил супротивных, целей лживых и маяков ложных. Женщин ещё материнство как-то держит и то с жизненных рельс сходят, а про мужиков и говорить нечего. Без Бога в душе, русский человек уже и не русский вовсе, а так – перекати поле, посмешище миру, шарж на святое.
– Эк, вы как! Так уж и сразу?.. «Посмешище миру, шарж на святое».
– По-другому, Георгий, не выходит.
– А я, ещё думаю,– дополнил Георгий, – торгашеская радость не по нему, задачи по плечу нет. Была бы задача, цель, хоть и не глобального масштаба, тогда другое дело. Нет такой задачи, нет цели… отсюда и пьянка.
– Цели они разные, Георгий… Вот сейчас росийские политики хотят такую цель для русского народа обозначить и подсовывают ему разный суррогат. Только зря стараются. Цель для нашего народа со времён крещения Руси определена. Это великая ноша, которую бросить – значит погибнуть и нести тоже невмоготу. А ведь несём. Велика ноша. Кости от напряжения от мяса отделяются, сухожилия звенят и лопаются, кровь на лбу вместо пота выступает, виски словно обручем сдавливает, но другого пути нет. Некому эту ношу нести, нет такой страны, нет такого народа под луною, кто бы мог вынести эту тягу…
Мы замолчали, думая каждый о своём. Я стал думать о том, что нет, и не может быть в душе у народа-богоносца выше цели, как донести творца в сердце до конца собственной жизни, набивая шишки об углы житейских и эпохальных проблем; Георгий же, по-видимому, примеривает на народ свой кафтан в виде спасительной идеи. В любом случае – оба молчим и думаем.
Мы снова едем к Корене. Сзади Большую Фёдоровку поглотила тьма. Она бесследно исчезла, растворилась. Впереди, за окном – чёрная космическая дыра, изредка прорезаемая метеоритным светом фар пролетающих большаком легковушек. Монотонно бьёт в стёкла автобуса желеобразная мокреть. В салоне включен свет. Напротив нас сидит крепкого телосложения молодайка. На её коленях примостился мальчишка лет пяти. Женщина разговаривает с соседкой, а карапуз пытается что-то вытащить из материнской сумки. Мать несколько раз бьёт его небольно, но назидательно по рукам, дескать, не лезь, а сынишка не слушается и опять тянется к сумке.