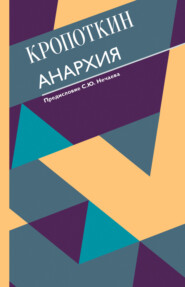По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки революционера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист. Он щадил, конечно, простую и искреннюю веру, являющуюся психологической необходимостью чувства, но зато беспощадно боролся с лицемерием в христианстве.
Вся жизнь цивилизованных людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки; нигилист же улыбался лишь тем, кого он рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, претили ему. Он усвоил себе несколько грубоватые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сентименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. И они восстали против этого сентиментализма, отлично уживавшегося с вовсе не идеальным строем русской жизни. Искусство тоже подпало под это широкое отрицание. Нигилисту были противны бесконечные толки о красоте, об идеале, искусстве для искусства, эстетике и тому подобном, тогда как и всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у голодающих крестьян или у обираемых работников. Он знал, что так называемое поклонение прекрасному часто было лишь маской, прикрывавшей пошлый разврат. Нигилист тогда еще отлил беспощадную критику искусства в одну формулу: «Пара сапог важнее всех ваших мадонн и всех утонченных разговоров про Шекспира».
Брак без любви и брачное сожитие без дружбы нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном домике и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить свои наряды и уйти из дома. Она надевала самое простое, черное шерстяное платье, остригала волосы и поступала на высшие курсы с целью добиться личной независимости. Женщина, видевшая, что брак перестал быть браком, что ни любовь, ни дружба не связывают ее больше с мужем, порывала со всем и мужественно уходила с детьми, предпочитая одиночество и зачастую нищету вечной лжи и разладу с собою.
Нигилист вносил свою любовь к искренности даже в мелкие детали повседневной жизни. Он отказался от условных форм светской болтовни и выражал свое мнение резко и прямо, даже с некоторой аффектацией внешней грубоватости.
В Иркутске мы собирались раз в неделю в клубе, где танцевали. Одно время я усердно посещал эти вечера, но потом мало-помалу отстал, отчасти из-за работы. Раз как-то одна из дам спросила моего молодого приятеля, почему это меня не видно в клубе уже несколько недель.
– Когда Кропоткину нужен моцион, он ездит верхом, – грубовато отрубил приятель.
– Почему же ему не заглянуть и не посидеть с нами, не танцуя? вставила одна из дам.
– А что ему здесь делать? – отрезал по-нигилистичьи мой друг. – Болтать с вами про моды и тряпки? Вся эта дребедень уже надоела ему.
– Но ведь он бывает иногда у Манечки такой-то, – нерешительно заметила одна из барышень.
– Да, но она занимающаяся девушка, – отрубил приятель. – Он дает ей уроки немецкого языка.
Должен сказать, что эта, бесспорно, грубоватая отповедь имела благие результаты. Большинство иркутских девушек скоро стало осаждать брата, нашего приятеля и меня просьбами посоветовать им, что читать и чему учиться.
С тою же самою откровенностью нигилист отрезывал своим знакомым, что все их соболезнования о «бедном брате» – народе – одно лицемерие, покуда они живут в богато убранных палатах, на счет народа, за который так болеют душой. С той же откровенностью нигилист заявлял крупному чиновнику, что тот не только не заботится о благе подчиненных, а попросту вор.
С некоторой суровостью нигилист дал бы отпор и «даме», болтающей пустяки и похваляющейся «женственностью» своих манер и утонченностью туалета. Он прямо сказал бы ей: «Как вам не стыдно болтать глупости и таскать шиньон из фальшивых волос?» Нигилист желал прежде всего видеть в женщине товарища, человека, а не куклу, не «кисейную барышню». Он абсолютно отрицал те мелкие знаки внешней вежливости, которые оказываются так называемому слабому полу. Нигилист не срывался с места, чтобы предложить его вошедшей даме, если он видел, что дама не устала и в комнате есть еще другие стулья. Он держался с ней как с товарищем. Но если девушка, хотя бы и совершенно ему незнакомая, проявляла желание учиться чему-нибудь, он помогал ей уроками и готов был хоть каждый день ходить на другой конец города. Молодой человек, который пальцем не шевельнул бы, чтобы подвинуть барышне чашку чая, охотно передавал девушке, приехавшей на курсы в Москву или в Петербург, свой единственный урок и свой единственный заработок, причем говорил: «Нечего благодарить: мужчине легче найти работу, чем женщине, вовсе не рыцарство, а простое равенство».
И Тургенев, и Гончаров пытались изобразить этот новый тип в своих романах. Гончаров в «Обрыве» дал портрет с живого лица, но вовсе не типичного представителя класса; поэтому Марк Волохов только карикатура на нигилизм. Тургенев был слишком тонкий художник и слишком уважал новый тип, чтобы быть способным на карикатуру, но и его Базаров не удовлетворял нас. Мы в то время нашли его слишком грубым, например, в отношениях к старикам-родителям, а в особенности мы думали, что он слишком пренебрег своими обязанностями как гражданин. Молодежь не могла быть удовлетворена исключительно отрицательным ко всему отношением тургеневского героя. Нигилизм с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению «новых людей», не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе «Что делать?», мы уже видели лучшие портреты самих себя.
Но «горек хлеб, возделанный рабами», – писал Некрасов. Молодое поколение отреклось от этого хлеба и от богатств, накопленных отцами при помощи подневольного труда людей – крепостных или закабаленных на фабрике.
Вся Россия читала с удивлением во время процесса каракозовцев, что подсудимые, владевшие значительными состояниями, жили по три, по четыре человека в одной комнате, никогда не расходовали больше чем по десяти рублей в месяц на каждого и все состояние отдавали на устройство кооперативных обществ, артелей, в которых сами работали. Пять лет спустя тысячи молодых людей, цвет России, поступили так же. Их лозунг был «в народ». В начале шестидесятых годов почти в каждой богатой семье происходила упорная борьба между отцами, желавшими поддержать старые порядки, и сыновьями и дочерьми, отстаивавшими свое право располагать собою согласно собственным идеалам. Молодые люди бросали военную службу, конторы, прилавки и стремились в университетские города. Девушки, получившие аристократическое воспитание, приезжали без копейки в Петербург, Москву и Киев, чтобы научиться делу, которое могло бы их освободить от неволи в родительском доме, а впоследствии, может быть, и от мужского ярма. Многие из них добились этой личной свободы после упорной и суровой борьбы. Теперь они жаждали приложить с пользою приобретенное знание; они думали не о личном удовольствии, а о том, чтобы дать народу то знание, которое освободило их самих.
Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития. Здесь тщательно изучали труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было разрешить великий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем может она быть наиболее полезна народу? И постепенно она приходила к выводу, что существует лишь один путь. Нужно идти в народ и жить его жизнью. Молодые люди отправлялись поэтому в деревню как врачи, фельдшеры, народные учителя, волостные писаря. Чтобы еще ближе соприкоснуться с народом, многие пошли в чернорабочие, кузнецы, дровосеки. Девушки сдавали экзамены на народных учительниц, фельдшериц, акушерок и сотнями шли в деревню, где беззаветно посвящали себя служению беднейшей части народа.
У всех их не было никакой еще мысли о революции, о насильственном перестройстве общества по определенному плану. Они просто желали обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему каким-нибудь образом выбраться из тьмы и нищеты и в то же время узнать у самого народа, каков его идеал лучшей социальной жизни.
Когда я возвратился из Швейцарии, то нашел это движение в полном разгаре.
Глава XIII
Кружок «чайковцев». – Дмитрий, Сергей, Софья Перовская, Чайковский
Я поспешил, конечно, поделиться с друзьями моими книгами и впечатлениями, вынесенными из знакомства с Интернационалом. Собственно говоря, в университете у меня не было друзей: я был старше большинства моих товарищей, а среди молодых людей разница в несколько лет всегда является помехой тесному сближению. Нужно также прибавить, что, с тех пор как был введен устав 1861 года, лучшие молодые люди, то есть наиболее развитые и независимые, отсеивались в гимназиях и не допускались в университет. Поэтому большинство моих товарищей были хорошие юноши, трудолюбивые, но они не интересовались ничем, кроме экзаменов. Я подружился только с одним Дмитрием Клеменцом. Он был родом из Южной России и, хотя носил немецкую фамилию, вряд ли говорил по-немецки, а в типичном его лице не было ничего тевтонского. Он был развитой, начитанный человек и много думал, очень любил науку и глубоко уважал ее, но подобно большинству из нас скоро пришел к заключению, что стать ученым – значит перейти в стан филистеров, тогда как впереди такое множество другой, не терпящей отлагательства работы. Он посещал университет около двух лет, затем бросил его и весь отдался социальной деятельности. Жил он бог весть как. Сомневаюсь даже, была ли у него постоянная квартира. Иногда он приходил ко мне и спрашивал: «Есть у вас бумага?» Забрав запас ее, он примащивался где-нибудь у края стола и прилежно переводил часа два. То немногое, что он зарабатывал подобным образом, с избытком покрывало его скромные потребности, и, кончив работу, Клеменц плелся на другой конец города, чтобы повидаться с товарищами или помочь нуждающемуся приятелю. Он готов был исколесить весь Петербург пешком, чтобы выхлопотать прием в гимназию какого-нибудь мальчика, в котором товарищи принимали участие. Он, несомненно, был очень талантлив. В Западной Европе гораздо менее одаренный человек, чем он, наверное, стал бы видным политическим или социалистическим вождем. Но мысль о главенстве никогда не приходила ему в голову. Честолюбие было ему совершенно чуждо, зато я не знаю такой общественной работы, которую Дмитрий счел бы слишком мелкой. Впрочем, эта черта была свойственна не только ему одному. Ею отличались все те, которые в то время вращались в студенческих кружках.
Вскоре после моего возвращения из-за границы Дмитрий предложил мне поступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского. Под этим именем он сыграл важную роль в социальном развитии России и под тем же именем перешел в историю.
– Члены нашего кружка большею частью конституционалисты, – сказал мне Клеменц, – но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей повсюду в России; вы сами увидите впоследствии, что можно сделать
Я был уже знаком с Н. В. Чайковским и некоторыми членами его кружка. Чайковский произвел на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до настоящего времени, в продолжение многих лет, наша дружба не поколебалась.
Кружок возник из очень небольшой группы мужчин и женщин (в числе последних были Софья Перовская и три сестры Корниловы), соединившихся для самообразования и самоусовершенствования. В 1869 году Нечаев попытался организовать тайное революционное общество из молодежи, желавшей работать среди народа. Но для достижения своей цели он прибег к приему старинных заговорщиков и не останавливался даже перед обманом, чтобы заставить членов общества следовать за собою. Такие приемы не могут иметь успеха в России, и скоро нечаевская организация рухнула. Всех членов арестовали; несколько лучших людей из русской интеллигенции сослали в Сибирь, прежде чем они успели сделать что-нибудь. Кружок саморазвития, о котором я говорю, возник из желания противодействовать нечаевским способам деятельности. Чайковский и его друзья рассудили совершенно верно, что нравственно развитая личность должна быть в основе всякой организации независимо от того, какой бы политический характер она потом ни приняла и какую бы программу деятельности она ни усвоила под влиянием событий. Вот почему кружок Чайковского, постепенно раздвигая свою программу, так широко распространился по России и достиг таких серьезных результатов. Поэтому также впоследствии, когда свирепые преследования со стороны правительства породили революционную борьбу, кружок выдвинул ряд выдающихся деятелей и деятельниц, павших в бою с самодержавием.
В то время, то есть в 1872 году, кружок не имел в себе ничего революционного. Если бы он остался простым кружком саморазвития, то члены его скоро закаменели бы, как в ските. Но кружок нашел подходящую работу. Чайковцы стали распространять хорошие книги. Они покупали целыми изданиями сочинения Лассаля, Флеровского-Берви («О положении рабочего класса в России»), Маркса, труды по русской истории и распространяли их среди студентов в провинциальных городах. Через несколько лет в «тридцати восьми губерниях Российской империи», употребляя подсчет обвинительного акта, не было сколько-нибудь значительного города, где кружок не имел бы товарищей, занимавшихся распространением этого рода литературы. С течением времени под влиянием общего хода событий и побуждаемый вестями, прибывавшими из Западной Европы, о быстром росте рабочего движения кружок все больше становился центром социалистической пропаганды среди учащейся молодежи и естественным посредником между членами провинциальных кружков. А затем наступил день, когда преграда, отделявшая студентов от работников, рухнула и завязались прямые сношения с петербургскими и отчасти провинциальными рабочими. В это самое время, весной 1872 года, я присоединился к кружку.
Мои читатели в Западной Европе, вероятно, немало были разочарованы, когда узнали, что принятие в тайное общество не сопровождалось никакими клятвами и обрядами, о которых так много наговорили им романисты. Ничего этого, конечно, не было. Даже одна мысль о ритуале приема насмешила бы нас и вызвала бы со стороны Клеменца такую саркастическую усмешку, от которой любитель церемоний, если бы такой нашелся, устыдился бы. У кружка даже не было устава. В члены принимались только хорошо известные люди, испытанные много раз, так что им можно было безусловно доверять. Прежде чем принять нового члена, характер его обсуждался со всею откровенностью, присущею нигилистам.
Малейший признак неискренности или сомнения – и его не принимали. Чайковцы не гнались за тем, чтобы набрать побольше членов. Тем меньше стремились они к тому, чтобы непременно руководить всеми многочисленными кружками, зарождавшимися в столицах и в провинции, и взять, так сказать, на откуп все движение среди молодежи. С большинством из кружков мы были в дружеских сношениях; мы помогали им, и они помогали нам; но мы не покушались на их независимость.
Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью.
Глава XIV
Политические и социалистические течения. – Александр II и революционеры
Когда я присоединился к чайковцам, они горячо спорили о том, какой характер следует придать их деятельности. Некоторые стояли за революционную и социалистическую пропаганду среди учащейся молодежи. Другие же держались того мнения, что у кружка должна быть одна цель – подготовить людей, которые могли бы поднять громадную, косную рабочую массу, а потом стояли бы за перенесение центра агитации в среду крестьян и городских работников. Такие же споры шли во всех кружках и группах, которые тогда возникали в Петербурге и в провинциальных городах. И всюду сторонники второй программы брали верх.
Впрочем, когда мне поручили составить программу нашего кружка и я ставил целью движения крестьянские восстания и намечал захват земли и всей собственности, на моей стороне были только Перовская, Кравчинский, Чарушин и Тихомиров. Но все мы были социалистами.
Если бы молодежь того времени была только за абстрактный социализм, она удовлетворилась бы тем, что выставила бы несколько общих принципов, например о желательности в более или менее отдаленном будущем коммунистического владения орудиями производства, а затем занялась бы политической агитацией. В Западной Европе и Америке так именно и поступают социалисты, вышедшие из средних классов. Но русская молодежь того времени подошла к социализму совсем иным путем. Молодые люди не строили теории социализма, а становились социалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу товарищей между «моим» и «твоим» и отказываясь лично пользоваться состояниями, полученными по наследству. Они поступали по отношению к капитализму так, как, по совету Толстого, следует поступить по отношению к войне, то есть вместо того, чтобы критиковать войну и в то же время носить мундир, каждый должен отказаться от военной службы и от ношения оружия. Таким же образом молодые люди, каждый и каждая за себя, отказывались от пользования доходами Родителей. Такая молодежь неизбежно должна была пойти в народ – и она пошла. Тысячи молодых людей и девушек уже оставили дома своих родителей и жили в деревнях и в фабричных городах под всевозможными вицами. Это не было организованное движение, а стихийное, одно из тех массовых движений, которые наблюдаются в моменты пробуждения человеческой совести. Теперь, когда начали возникать небольшие организованные кружки, готовившиеся сделать систематическую попытку распространения идей свободы и революции, самая сила вещей толкнула их на путь пропаганды среди крестьян и городских рабочих.
Различные писатели пробовали объяснить движение в народ влиянием извне. Влияние эмигрантов – любимое объяснение всех полиций всего мира. Нет никакого сомнения, что молодежь прислушивалась к мощному голосу Бакунина; верно также и то, что деятельность Интернационала производила на нас чарующее впечатление. Но причины движения в народ лежали гораздо глубже. Оно началось раньше, чем «заграничные агитаторы» обратились к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала. Оно обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах. В кружке чайковцев я всеми силами содействовал развитию этого уже наметившегося движения; но в этом отношении мне приходилось только плыть по течению, которое было гораздо сильнее, чем усилия отдельных личностей.
Конечно, мы часто говорили также о необходимости политической агитации против самодержавия. Мы видели, что крестьяне совершенно разорены чрезмерными податями и продажей скота для покрытия недоимок. Мы, мечтатели, тогда уже предвидели то полное обнищание всего населения, которое, увы! теперь стало совершившимся фактом, охватило большую часть Средней России и признается ныне даже правительством.
Мы знали, какой наглый грабеж идет повсеместно в России. Мы знали о произволе чиновников, о почти невероятной грубости многих из них, и каждый день приносил нам новые факты в этом направлении. Мы постоянно слышали о ночных обысках, об арестованных друзьях, которых гноили по тюрьмам, а потом ссылали административным порядком в глухие поселки на окраинах России. Мы сознавали поэтому необходимость политической борьбы против этой страшной власти, убивавшей лучшие умственные силы страны. Но мы не видели никакой почвы, легальной или полулегальной, для подобной борьбы.
Наши старшие братья не признавали наших социалистических стремлений, а мы не могли поступиться ими. Впрочем, если бы некоторые из нас и отреклись от этих идеалов, то и то бы не помогло. Все молодое поколение огулом признавалось «неблагонадежным», и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним. Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились на таких признаках, как синие очки, подстриженные волосы и плед. Если к студенту часто заходили товарищи, то полиция уже, наверное, производила обыск в его квартире. Обыски студенческих квартир производились так часто, что Клеменц со своим обычным добродушным юмором раз заметил жандармскому офицеру, рывшемуся у него: «И зачем это вам перебирать все книги каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы вы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых». По малейшему подозрению в политической неблагонадежности студента забирали, держали его по году в тюрьме, а потом ссылали куда-нибудь подальше на «неопределенный срок», как выражалось начальство на своем бюрократическом жаргоне. Даже в то время, когда чайковцы занимались только распространением пропущенных цензурой книг, Чайковского дважды арестовывали и продержали в тюрьме по пяти или шести месяцев, причем в последний раз арест произошел в критический для него момент. Только что перед тем появилась его работа по химии в «Бюллетене Академии наук», а сам он готовился сдать последние экзамены на кандидата. В конце концов его выпустили, так как жандармы не могли найти никаких поводов для ссылки его. «Но помните, – сказали ему, – если мы арестуем вас еще раз, вы будете сосланы в Сибирь». Заветной мечтой Александра II действительно было основать где-нибудь в степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда всех подозрительных молодых людей. Лишь опасность, которую представлял бы такой город с населением в двадцать – тридцать тысяч политически «неблагонадежных», помешала царю осуществить его поистине азиатский план.
Один из наших членов, офицер Шишко, принадлежал к группе молодежи, которая стремилась на земскую службу Она считала эту службу своего рода миссией и усиленно готовилась к ней серьезным изучением хозяйственного положения России. Многие молодые люди некоторое время лелеяли такие надежды, которые рассеялись как туман при первом столкновении с государственной машиной. Правительство дало слабое подобие самоуправления некоторым губерниям и сейчас же путем урезок приняло меры, чтобы реформа потеряла всякое жизненное значение и смысл. Земству пришлось довольствоваться ролью чиновников при сборе дополнительных налогов для покрытия местных государственных нужд. Каждый раз, когда земство брало на себя инициативу в устройстве народных школ и учительских семинарий, в заботах о народном здравии, в земледельческих улучшениях, оно встречало со стороны правительства подозрительность и недоверие, а со стороны «Московских ведомостей» – доносы и обвинения в сепаратизме, в стремлении устроить «государство в государстве», в «подкапывании под самодержавие».
Если бы кто-нибудь вздумал, например, рассказать подлинную историю борьбы тверского губернского земства из-за его учительской семинарии и поведал про все мелкие преследования, придирки и запрещения, никто за границей ему бы не поверил. Читатель отложил бы книгу, говоря: «Слишком уж глупо, чтобы так было на деле». А между тем все так именно и происходило. Немало гласных отрешалось от должности, высылалось из губернии, а то и попросту отправлялось в ссылку за то, что они осмеливались подавать царю верноподданнические прошения о правах, принадлежащих и так уже земствам до закону. «Гласные уездных и губернских земств должны быть простыми министерскими чиновниками и повиноваться Министерству внутренних дел» такова была теория петербургского правительства. Что же касается до народа помельче, состоявшего на земской службе, например, учителей, врачей, акушерок, то их без церемонии, по простому распоряжению Третьего отделения отрешали в двадцать четыре часа от службы и отправляли в ссылку. Не дальше как в 1896 году одна помещица, муж которой занимал видное положение в одном из земств, пригласила на свои именины восемь народных учителей «Они, бедняги, никого не видят там, кроме мужиков», – сказала про себя барыня. На другой день после бала явился к ней урядник и потребовал список приглашенных учителей для рапорта по начальству. Помещица отказала.
– Ну, хорошо, – сказал урядник, – я сам дознаюсь и отрапортую Учителя не имеют права собираться вместе. Если они собирались, я обязан донести.
Высокое общественное положение барыни в данном случае спасло учителей, но соберись они у одного из товарищей, к ним нагрянули бы жандармы и половина была бы уволена Министерством народного просвещения. А если бы у кого-нибудь из них сорвалось резкое слово во время нашествия, то его, наверное, отправили бы подальше. Такие дела происходят теперь, через тридцать три года после введения земского положения, но в семидесятых годах было еще хуже. Какую же основу для политической борьбы могли представлять подобные учреждения?
Когда я получил по наследству от отца тамбовское поместье, село Петровское-Кропоткино, я некоторое время серьезно думал поселиться там и посвятить всю свою энергию земской службе. Некоторые крестьяне и бедные священники окружных деревень просили об этом. Что касается меня, я удовольствовался бы всяким делом, как бы скромно оно ни было, если бы только оно дало мне возможность поднять умственный уровень и благосостояние крестьян. Раз, когда некоторые из тех, которые советовали мне остаться, собрались вместе, я спросил их: «Ну предположим, я попробую открыть школу, заведу образцовую ферму, артельное хозяйство, а вместе с тем заступлюсь вот за такого-то из наших крестьян, волостного судью, которого недавно выпороли в угоду помещику Свечину. Дадут ли мне возможность продолжать?» И все мне ответили единодушно: «Ни за что».
Несколько дней спустя пришел ко мне очень уважаемый в окрестности седой священник с двумя влиятельными раскольничьими наставниками.
– Потолкуйте с ними хорошенько, – сказал он мне. – Если у вас лежит к тому сердце, так вы идите с ними и с Евангелием в руках проповедуйте крестьянам… Вы сами знаете, что проповедовать… Никакая полиция не разыщет вас, если они вас будут скрывать. Ничего другого не поделаешь Вот какой совет я, старик, могу вам подать.
От этой роли я, конечно, наотрез отказался. Я откровенно сказал им, почему не могу стать новым Виклифом. «Не могу я говорить «от Евангелия», когда оно для меня такая же книга, как и всякая другая. Ведь для успеха религиозной пропаганды нужна вера, а не могу же я верить в божественность Христа и в веления божьи». – Так я тогда говорил, а теперь из жизненного опыта прибавлю еще, что если революционная пропаганда во имя религии и захватывает действительно массу людей, которых чистая социалистическая пропаганда не трогает, зато и несет эта религиозная пропаганда с собою такое зло, которое пересиливает добро. Она учит повиновению; она учит подчинению авторитету; а выдвигает она вперед людей прежде всего самовластных, любящих править! И в конце концов неизбежно в силу этого самого она выдвинет церковь, то есть организованную защиту подчинения людей всякой власти. Так всегда было со всеми религиозными движениями, даже когда они начинались таким революционным движением, как перекрещенство (анабаптизм), и с такими анархическими философскими учениями, как учение Декарта. Но старик был прав по-своему. Теперь среди крестьян быстро распространяется движение, подобное религиозному движению лоллардов. Пытки, которым подвергались миролюбивые духоборы, и набеги, совершавшиеся в 1897 году на штундистов, у которых отнимали детей для воспитания их в провинциальных монастырях, придадут движению еще большую силу, чем оно могло проявить двадцать пять лет назад.
Так как во время наших споров в кружке постоянно поднимался вопрос о необходимости агитации в пользу конституции, то я однажды предложил серьезно обсудить это дело и выработать план действий. Я всегда держался того мнения, что, если кружок что-нибудь решает единогласно, каждый должен отложить свое личное чувство и приложить все усилия для общей работы. «Если вы решите вести агитацию в пользу конституции, – говорил я, – то сделаем так: я отделюсь от кружка в видах конспирации и буду поддерживать сношения с ним через кого-нибудь одного, например Чайковского. Через него вы будете сообщать мне о вашей деятельности, а я буду знакомить вас в общих чертах с моею. Я же поведу агитацию в высших придворных и высших служебных сферах. Там у меня много знакомых, и там я знаю немало таких, которые уже недовольны современным порядком. Я постараюсь объединить их вместе и, если удастся, объединю в какую-нибудь организацию. А впоследствии, наверное, выпадет случай двинуть все эти силы с целью заставить Александра II дать России конституцию. Придет время, когда все эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих собственных же интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. Те из нас, которые были офицерами, могли бы вести пропаганду в армии. Но вся эта деятельность должна вестись отдельно от вашей, хотя и параллельно с ней».
Я вносил это предложение, серьезно взвесив его, в январе или феврале 1874 года. Я знал, какие есть у меня связи в дворцовых кругах, на кого я мог бы полагаться, и могу даже прибавить, что некоторые недовольные в придворных сферах смотрели на меня как на лицо, вокруг которого группируется оппозиция.
Кружок не принял этого предложения. Зная отлично друг друга, товарищи, вероятно, решили, что, вступив на этот путь, я не буду верен самому себе. В видах чисто личных я теперь в высшей степени рад, что мое предложение тогда не приняли. Я пошел бы по пути, к которому не лежало мое сердце, и не нашел бы лично счастья, которое встретил, пойдя по другому направлению.